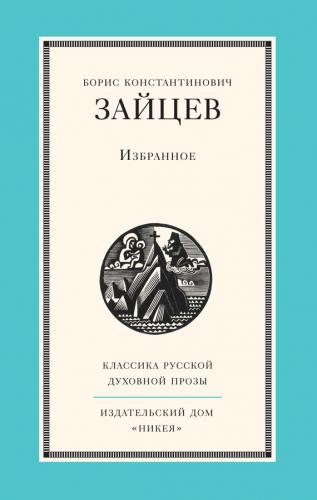Или:
– Много наших под Силистрией легло. И мы там с барином были.
Темная тень – годов, императоров, битв, войн – ложилась тогда на душу Аграфены. Казалось страшным дожить до такой старины; и когда не спалось, мысль настойчивей направлялась к тому: как же? Когда? Что будет «там»? И вначале, как ни билась, дух немел перед возможностью не быть, перед тем, что же будет, когда не будет ее? Прежние мысли об аде, о том, что «вдруг есть Бог» и покарает за грехи, ушли давно; с течением времени стал также проходить тот дикий ужас – а если убьют, от болезни внезапной умрешь, сгоришь, – от которого она холодела раньше.
Теперь, с годами и размышлениями, смерть представлялась надвигающейся мерным и торжественным ходом. Она шла неотвратимо, как крылатая царица, звучала бархатно-черным тоном. Но на фоне этого мрака просветленнее, трогательнее сияли видения прежних лет: дальний роман среди полей, с полузнаемым им, весною тихой, апрелем: слабо мерцающая где-то сейчас детская жизнь. Как давно было все это! Теперь Аграфене казалось, что ее жизнь примет ровное и бедное течение, будучи отдана этой девочке; но ей было назначено за первым переломом бытия узнать еще огни и печали передвечерия.
XIII
В ноябре, среди ранних диких мятелей в дом госпожи Люце приехала барышня Клавдия с братцем. Клавдия приходилась тетушке родственницей, сняла комнату себе и братцу отдельно – и стала ходить в музыкальное училище, а братец в гимназию. Клавдии поставили пианино в комнату, и теперь нередко в пустынной квартире бывал Бетховен и старые немцы. Под их звуки тетушка мернее вертела колесом и туманнее думала о днях былых, когда с покойным ныне мужем они вели ясную жизнь, в любви и дружбе.
Также в Аграфенину кухню сходили эти голоса. Она мало их понимала, но почему-то от того, что барышня умела играть, она казалась Аграфене не совсем обыкновенной: точно жило в ней смутное и слегка загадочное. А в то же время и простое: сбегала вниз к ней, могла хохотать, картошку ела с плиты недоваренную, наверху же вносила в жизнь тетушки некоторый кавардак. Но страннее всего был братец, совсем молоденький. Тоненький, тихий, часами просиживал он в своей комнате, что-то всегда рисовал, тщательно прятал, молчал и иногда вдруг густо и беспричинно краснел.
– Нашего Костю никогда не слыхать, – говорила тетушка. – Право, жив ли, мертв ли, не узнаешь.
Клавдия улыбалась – точно была с ним в заговоре.
– Он думает.
– Ах, Клаша, все-такось рано с этих пор думать. Братец же, если слышал, что при нем о нем говорят, имел неопределенный и полуневидящий вид, а потом, допив чай или кончив обед, вежливо благодарил и уходил в свою комнату. Занимался уроками, потом много мучительно рисовал, потом читал, ложился спать.
Утром в потемках вставал и шел в гимназию; и ноябрьские дни, заметая снегами улицы, свинцовой вереницей брели над городом; ведя нить жизни дальше, в глушь, в черноту ночей.
XIV
Аграфена