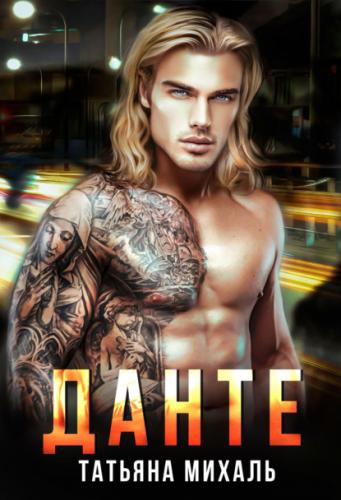При жизни убийц моей сестры не настиг человеческий закон и суд. И я не смог вынести слёз и седины матушки и отца, что постарели за день сразу на тысячу лет.
Девять лет прошло, как я потерял сестру-близнеца, но мне кажется, будто моё сердце тогда остановилось и больше не забьётся. Душа до сих пор громко плачет.
Я не считаю себя сильно умным. Но и дураком не являюсь. Я знаю, что очень грешен. И знаю, что до меня обязательно дойдёт Высший закон, когда закончится мой путь.
Поверь, когда в нас подлых мыслей нет,
Нам ничего не следует бояться.
Зло ближнему – вот где источник бед,
Оно и сбросит в пропасть, может статься.[1]
Вернувшись в камеру, замечаю, что сокамерники умолкли и замерли.
– Данте, а не подохерел ли ты? – рычит один из них.
Поднимаю одну бровь и спокойно спрашиваю:
– Какие-то проблемы?
– Это ты создаёшь проблемы, – цедит зек.
– Я их решаю, – отвечаю резко. – Если ты решил стать проблемой, то я быстро решу этот вопрос.
– Ты в уши мне говно не лей. Пацаны видели, как ты отметелил Волка! Менты всех нас отправят по карцерам, но сначала из каждого сделают такую же отбивную! И запрут камеру! Больше не будет свободных прогулочек! Будем сидеть в этой конуре, как и остальные! Пацаны тебе спасибо точно не скажут!
Ставлю руки на стол и склоняюсь к зеку. Смотрю в его злые глаза и произношу:
– А ты, что, в штаны уже от страха наложил?
Мужик поднимается со скрипучего стула.
– Данте, я тебя уважаю, но в последнее время ты переходишь всякие границы. Решил гниде пасть сломать – сломай. Но сделай всё так, чтобы никто не задавал вопросов. Здесь тебе не бойцовский клуб. Здесь тюрьма. Сегодня тебя никто не сдаст. Но и покрывать никто не станет. Ответишь за Волка сам.
– Их нежит небо, Или травит ад?[2] – усмехаюсь я. – Мне плевать на чьё-либо мнение.
Оглядываю всех мёртвым взглядом и говорю предельно просто и понятно:
– Для меня важна светлая память сестры, и никто из вас, ублюдков, не смеет её касаться. Любой, кто вякнет о ней – сдохнет в луже собственной крови с распоротым брюхом.
Ярость вновь пронизывает мои внутренности, пылая знакомым огнём, который уничтожил почти всё светлое во мне, превратив душу в выжженную землю.
– Ты псих, Данте, – с жалостливой ненавистью произносит зек. – Ты здесь не просидишь и десятка лет, как тебя кончат.
Я смеюсь на его слова и говорю цитатой:
– Я не был мертв, и жив я не был тоже[3] Поэтому… я буду только рад…
– Ты уже всех заебал своей одой! – рявкает другой зек.
– Ода – это торжественная песня. «Божественная комедия» Алигьери – это поэма.
Зек сплюнул.
Возможно, сейчас в камере произошла бы драка.
Но вмешался случай.
В камеру входит надзиратель и бросает небрежно:
– Данилов!