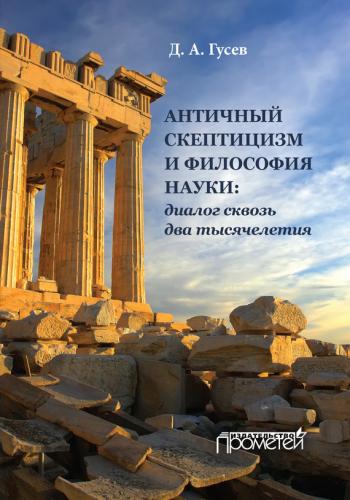По А.Ф. Лосеву «остановиться на скептицизме Пиррона или Тимона античная мысль, конечно не могла. Такого рода скептицизм был слишком уж абсолютен и непримерим, и в античной философии он мог промелькнуть в таком виде только лишь как кратковременный момент. Античная скептическая мысль, стараясь обосновать свою скептическую позицию, волей-неволей должна была тут же вводить некоторого рода и конструктивные моменты, чтобы первоначальный скептический релятивизм не превратился в пустой и бессодержательный нигилизм… но когда Академия стала явно переходить на рельсы догматической философии, которую она оспаривала по крайней мере в течение ста пятидесяти лет, чистый пирронизм еще раз дал о себе знать, хотя в те времена было поздно останавливаться только на интуитивном скептицизме, а нужно было по крайней мере так или иначе его систематизировать, этим и стал заниматься возрожденный в I в. до н. э. пирронизм»[203].
Иное видение соотношения пирронизма и академического скептицизма предлагает А.В. Семушкин: «начиная с III в. до н. э. происходит инфильтрация скептического критицизма в цитадель древнегреческого умозрения – в платоновскую Академию… При этом пирронизация Академии не означала самоликвидации платонизма и подмену его скептицизмом… Пирронизм и платонизм в своем развитии соприкасаются, но не примиряются и не смешиваются; только с большой натяжкой их можно рассматривать как ступени единого генезисного ряда… Во-первых, философские установки и идеалы пирронизма и платонизма различны: для первого скептицизм – интеллектуальное убеждение, тождественное их мировоззрению и противостоящее всем попыткам дать объективную картину мира; для второго скептицизм – всего лишь орудие и средство философствования, используемые для защиты догматического мировоззрения в полемике с конкурирующими философскими системами. Культ Платона в стенах Академии, как и авторитет его спекулятивных идей, всегда стоял на страже границ, отделяющих академический логико-эпистемологический