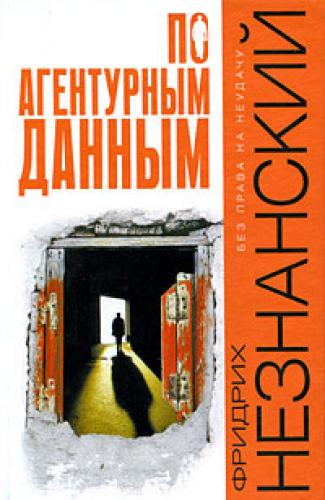– Ну и видок у тебя! Жаль, зритель тебя таким не увидит!
– Да иди ты! – огрызнулся он, зажимая окровавленный рукав. – Помоги лучше.
Я осмотрел рану. Вроде, ничего страшного, нож прошел по касательной.
– Это как же он тебя зацепил?
– Сзади налетел. На шею прыгнул, – нехотя буркнул Сташевич. – Вон оттуда, – он указал глазами на верхний ряд ящиков.
– Ясно. А ты не успел среагировать? – ехидничал я, накладывая жгут.
– Не успел бы, лежал бы с перерезанным горлом, – буркнул Олежка. – А где Чиж?
– Бороздит морские просторы. Пойдем, ему, может, тоже помощь нужна.
Мы подошли как раз в тот момент, когда Чиж, сжимая зубами нож, выбирался на причал. Вода ручьями стекала с одежды.
– Порядок, – выдохнул он.
– А где труп?
– Да вон, внизу. Я его у поручней закрепил.
– Как водичка?
– Нормуль. Выше нуля. Градусов на пятнадцать. Я посмотрел на циферблат.
– Время окончания операции – четыре часа пятьдесят шесть минут. По-моему, мы молодцы.
– А то! – стуча зубами, отозвался Чиж.
Мы вернулись в штаб. Кислицын крепко жал руки и любил нас как родных. Оказалось, что шестого немца убили свои же. Вот падаль! Пока я писал рапорт, пока Олегу оказывали медицинскую помощь, а Чижа отогревали чаем с водкой, пока Кислицын связывался с нашим начальством, прошло еще два часа. Нам было предписано двигаться прежним курсом, то есть в Первопрестольную, дабы доложиться по всей форме, а потом… Потом каждому был обещан пятидневный отпуск! Вот оно, счастье!
Кислицын позаботился, чтобы мы попали на первый же поезд, и, едва мы оказались в купе, Чиж соорудил закусь, я извлек из вещмешка бутылку водки, подаренную Кисли-циным, и процитировал классика, коим несомненно станет когда-нибудь Олежка Сташевич:
– Сейчас по сто пятьдесят и спать до Москвы. Возражения есть?
Возражений не было.
НОВЫЙ, 1938 год, Австрийские Альпы
Огни фонарей вдоль железной дороги, проложенной у подножия тирольских холмов, освещали небольшой австрийский городок, засыпанный снегом, словно убранный в сказочные белые одежды.
Нарядные витрины магазинов, веселые люди, их улыбки, яркие наряды, венки хвои над окнами аккуратных двух-, трехэтажных домов – все напоминало о только что прошедшем Рождестве и о том, что завтра наступит новый, 1938 год.
Курт Домбровски поднимался по склону холма, с удовольствием прислушиваясь к хрусту снега под лыжными ботинками, радуясь возможности побыть одному, без снующих под ногами детей, их вздорных мамаш и надменных папаш. Он глубоко вдыхал крепкий, морозный воздух, легкий, как взбитые сливки. Утром выпал снег, потом изрядно подморозило, и сейчас склоны были девственно чисты. Словно крупное сильное животное отряхнулось от бесконечного множества