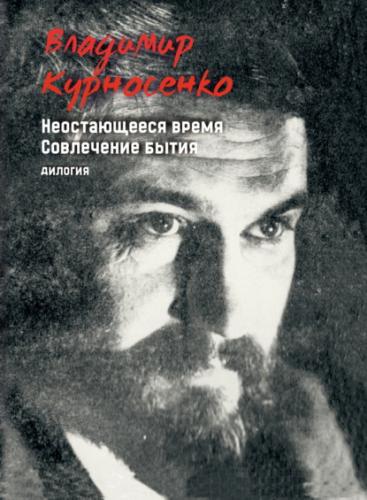Ничего, что было фальшиво, представлялось мне, только бы увести разговор куда-нибудь. Только бы лишить права голоса Валю.
Гоша тоже замолчал и тоже сделал шаг к дочери от сопереживания.
И она, девочка, без сомненья его, Гошина, дочка, отвела за взблеснувшими очечками застенчивые глаза и мучительно, приливами краснея щекастеньким милым личиком, едва слышно выдавила в ответ:
– Да.
Я понял, что «во второй», а Гоша шумно и с облегченьем выдохнул и, видно, запамятовав, что имел с Пашею достаточную беседу, озвучил в завершенье то, к чему много-много времени допрежь Паша, словно предчуя эту нужду, и принял свое решение о «всяком, кто подойдет».
– Подойти… – сказал Гоша, с трудом кривя губы в улыбке. – Постоять возле Паши…
Они стояли рядом, плечом к плечу и, оба в смущении, безмолвствовали.
Изуродованный, чужой и словно подлинневший Гоша, все еще карикатурно кхыкающий и вздрагивающий, и низкорослый, плотненький, с пузцом, как у симпатяги Армстронга, бледный от ужаса Паша. И мне, глядя на них, подумалось почему-то, что мама у Гоши умерла…
Валя же, ничем не смущаясь, не без веселой искры в глазу поглядывала на меня.
Помешкав и потолчась, сколько требовало приличье, и не договариваясь для виду даже ни о каких встречах и телефонных звонках, мы скомканно, с горем пополам простились с семейством Бугайчуков и покинули тракторозаводский сквер…
Мы были ошарашены, потрясены до мозга костей, до пределов недоумения.
Возвратившись домой, я отыскал после в «Справочнике практического врача» необходимые сведенья про Гошин недуг.
Как и подозревалось, это было одно из тех «наследственно-дегенеративных заболеваний», что по неведомо-непонятной причине поражают человека где-то между тридцатью и сорока годами.
Поражают мягкие и твердые оболочки спинного, продолговатого и головного мозга и в теченье недолгого, иногда в месяцы, времени низводят его от цветущего мужчины до слабоумного калеки… А потом…
По жалкой инфантильно-подростковой навычке отыскивать для заземленья боли виноватого, я загрешил, заобозлялся было на Валю, остервенившуюся, видишь ли, по моему-то мнению, окончательно, но подумал-подумал, сделал над собой усилье и остановился.
«Истинная заслуга и виновность поступков, даже наших собственных, – догадался по этому поводу Иммануил Кант, – остается сокрытой от нас…»
Ей же, оккупантше Вале, невдолге предстояло такое, что…
Еще хуже обстояло с самой гуманной профессией, с медициной, с наукою, едрена вошь… чегой-то важнейшего, почуял я, остекленевшими своими буркалами не ухватывающей…
Сгоряча-попервости мне заподозрились шарлатанство, авантюризм и даже подлость.
Я решил, что, наверное, с ней случилось то, что бывает с человеком, вообразившим себя чрезвычайно добрым, умным, великодушным и творящим без перерыва голимое добро, который не ищет, не хочет, а потому и