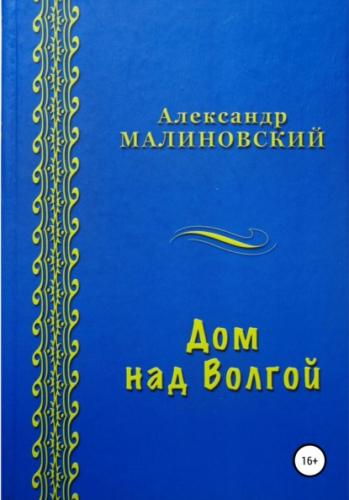А на выгоне своя работа. Как только Шурка подъезжал, мужики, сунув вагу в горловину бочки, разворачивали её и через несколько минут можно было опять мчаться к озеру.
В одну из ездок с Шуркой случилась авария. На самом конце улицы, когда он гнал рысью Карего, около палисадника из-под лавочки ветром выдуло газету, которая, разворачиваясь, поползла к дороге. Шурка стоял сзади бочки, левой рукой держась за отверстие в ней, чтобы она, пустая, не играла на дрожках.
В следующее мгновение, скосив дико правым глазом на газету, большим белым чудищем, похожим на черепаху, двигавшуюся на него, Карий резко прыгнул влево. Шурку вместе с бочкой снесло на землю. Бочка, громыхая, покатилась к палисаднику, а Шурка упал рядом со злополучной газетой. Какое-то мгновение был провал в сознании. Когда же вскочил, ног будто не было. Он вновь оказался на земле. «Отнялись», – со страхом пронеслось в голове. Карий стоял метрах в двадцати и смотрел на него. Левая рука лежала на газете. Шурка провёл ею по странице, она выпрямилась и он прочёл: «Волжская коммуна». «Деда всегда её читает», – подумал Ковальский и вяло перевернулся с живота на бок.
А к нему уже бежали люди. Помогли подняться, посадили на лавку. Пока подводили Карего, водружали бочку на дрожки, у Шурки боль прошла. Он встал с лавки, оттолкнулся от ограды и пошёл к повозке.
– Матери скажи, что ушибся, ездок, – сказала вслед хозяйка дома.
– Ладно, – неопределённо отозвался Шурка, погоняя Карего. Въезжая в воду, к ожидавшим его девкам, он уже не думал о случившемся.
Саман смяли и начали выкладывать чуть поодаль на ровном месте. На жести заполняли им большие формовочные станки, уминали ногами. Волоком их тащили в сторону. Затем поднимали, а кирпичи оставляли сохнуть.
…На второй день помочей, вечером, когда закончили с саманом, помогавшие гуляли у Любаевых во дворе. Шурку посадили наравне со всеми за стол на лавку, вернее – на доску, положенную концами на табуретки. Мать суетилась с закуской.
Пили «Под синей юбочкой» – так называли денатурат за его цвет. Его жаловали и женщины. Самогонки не было – боялись гнать. Остроухову принесли гармонь, а у Василия Любаева – балалайка. Они сели в торце длинного стола, на виду у всех.
После того, как выпили, заиграли подгорную. Задвигали лавками-досками. Дошла очередь и до Аксюты Васяевой. Она выплыла в круг и неожиданно красивым, сильным голосом озорно пропела:
Повели меня на суд,
А я вся трясуся.
Присудили сто яиц,
А я не несуся!
– Вот баба, – восхищённо сказал захмелевший дед Проняй, – кого хочешь в косые лапти обует.
– Да, ладно, она, по-моему, ещё не перебабилась, –