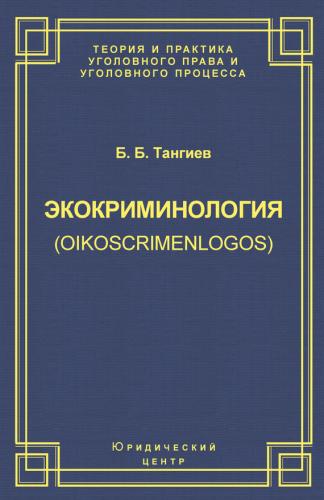Несомненно, развитие правового регулирования экопользования осуществлялось под влиянием различных факторов: природных, экономических, культурных.
Законодательство данного периода в области охраны природы расценивало объекты природы как общечеловеческие ценности и разграничивало право собственности на них, а кроме того, предполагало вмешательство на государственном уровне. Аналогичные тенденции наблюдаются и в законодательстве более позднего периода.
§ 1.2. Законодательство советского периода в области охраны природы
Исследовавшая историю уголовного законодательства советского периода, регулирующего отношения по охране природы, Е. В. Виноградова отмечает крайнюю противоречивость норм института уголовного наказания в начальный период существования Советского государства. Причиной этого, прежде всего, явилась крайняя неустойчивость внутренней политики государства, сложившаяся ситуация, «когда законность заменялась целесообразностью, направленной на удержание и укрепление советской власти, а также тем, что советская власть практически полностью отвергла имперское законодательство».[32]
Вопросы, касающиеся уголовного наказания, да и уголовного права вообще, рассматривались в различных нормативно-правовых актах, как правило, противоречащих друг другу. И для того, чтобы обобщить развитие уголовно-правовых норм, законодателю потребовалось некоторое время, и уже в декабре 1919 года были приняты Руководящие начала по уголовному праву РСФСР.
Процесс децентрализации управления землями и другими природными ресурсами с передачей всей полноты власти местным Советам депутатов юридически был оформлен первыми советскими декретами.[33]
Первым же юридическим актом был Декрет 1917 г. «О земле»[34], который по большей части носил экономический характер, но в то же время уже создавал условия для охраны земель. Статья 2 данного Декрета гласит: «Помещичьи имения, равно как и все земли уездные, монастырские, церковные, переходили в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов».[35]В следующей статье говорится о том, что «какая бы ни была порча конфискуемого имущества, принадлежащего ныне всему народу, она объявляется тяжким преступлением, караемым революционным судом».[36] Но интересен тот факт, что нет четко установленной меры наказания. Кроме того, в кодифицированных