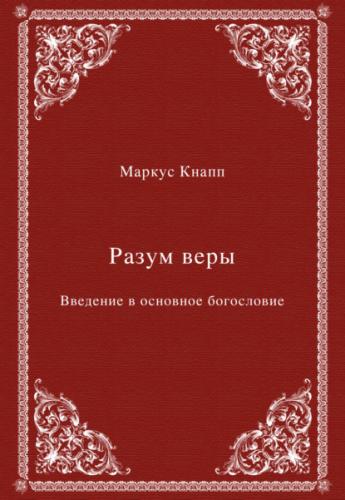Следующий шаг в обретении философией самостоятельности был предпринят в ходе новой рецепции трудов Аристотеля. Благодаря этому апологетические устремления в христианстве испытали новый и особенный вызов. Здесь им предстало такое понимание действительности, в котором Божественное откровение более, казалось, не находило себе места. Помимо этого, аристотелики были убеждены в том, что действительность может быть познана во всеобъемлющем смысле, когда возникает вопрос о причинах существующего: кто познал причину чего-то существующего, тот, тем самым, познал и его сущность. Таким образом, наука в аристотелевском смысле задавала вопрос о взаимосвязи причин и следствий, чтобы познать сущность существующих вещей. Этот вопрос не был ограничен только внутримирными взаимосвязями, он охватывал также область метафизического. Само Божественное в аристотелевском восприятии действительности причислялось к его предметам, как первая причина всего, что существует. В том-то и состояло необычайное очарование аристотелевской философии для Средних веков, что здесь получала свое осуществление радикальная воля к рациональности и рациональному познанию. Здесь обнаруживалось, что, если только человек при помощи своего разума продвигается вперед научным способом, действительность в целом открывается ему в гораздо большей степени, чем это до сих пор считалось возможным.
Перед богословием аристотелевская мысль ставила основополагающий вопрос о значении Божественного откровения. Что может подобное откровение сказать человеку, помимо того, что он сам способен исследовать на пути науки при помощи своего разума? В связи с этим приобретал совершенно новую постановку трудный вопрос об отношении философского разума и веры в богооткровенные истины – могут ли философские познания противоречить тому, что говорит откровение? Есть ли, говоря иначе, двойственная истина, если из этих отличных друг от друга предпосылок исходят противоречащие друг другу выводы? (Hödl, 1972; Sparn, 1979, 54–56). В самом деле, появились радикальные аристотелики (напр., Сигер Брабантский и Боэций Датский), которые отстаивали этот тезис, например, в случае противоположности библейской идеи творения и учения Аристотеля о вечности мира.
В этой ситуации Фома Аквинский (1225–1274) предпринял меры для того, чтобы придать теологии положение самостоятельной науки наряду с философией, не ограничивая автономию обеих. Фома всецело стоял на почве аристотелевской мысли; он не отказывался от нее, как другие богословы, однако хотел показать: теология и по аристотелевской мерке оказывается самостоятельной наукой sui generis[39], ибо она покоится на собственных принципах, исходя из которых исследует свой особенный предмет, который философия не смогла постигнуть.
Уже в начале своей «Суммы теологии» Фома обращается к этому, вставшему вместе с новым открытием Аристотеля вопросу: нужно ли еще одно учение (doctrina) наряду с философией? Фома отвечает: «Ради спасения