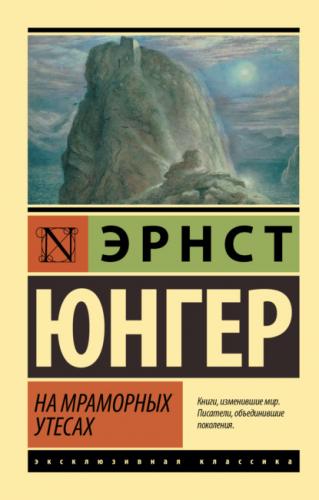Но не наслаждение покоем заставило нас примкнуть к ним. Когда человек теряет точку опоры, им начинает править страх, вихрь которого ослепляет. Среди мавританцев, однако, царило безмятежное спокойствие, как в центре циклона. Падая в пропасть, человек видит окружающее с предельной степенью отчетливости, как в увеличительном стекле. Именно такой взгляд, только без примеси страха, приобретался в атмосфере Мавритании, которая в основе своей была напоена злом. Именно тогда, когда начинал преобладать страх, прибывала способность к холодному мышлению и духовному отчуждению. На фоне катастроф царило приподнятое настроение; люди шутили над собой, как шутят арендаторы игорного дома по поводу разорившихся клиентов.
Тогда стало мне отчетливо ясно, что паника, чья тень всегда ложилась на наши большие города, находит противовес в отважном мужестве немногих, которые, словно орлы, парят над ничтожными земными страданиями. Однажды, когда мы выпивали с Капитаном, он задумчиво посмотрел в запотевший бокал как в стекло, раскрывающее прошлое, и мечтательно произнес: «Самым сладостным был для меня тот бокал зекта, что поднесли нам к стенобитным машинам в ту ночь, когда мы сожгли до тла Сагунт». И мы подумали: лучше погибнуть вот с этим, нежели жить с теми, кто от страха зарывается в пыль.
Но я отвлекся. У мавританцев можно было научиться игре, которая могла взбодрить ничем уже не связанный дух, смертельно уставший от самоиронии. У них же мир переплавился в карту, в том виде, в каком ее рисуют для любителей – с помощью циркулей и прочих блестящих инструментов; брать их в руки – одно удовольствие. Отсюда странным казалось, что и в этом светлом, лишенном тени и абстрактнейшем из пространств можно вдруг наткнуться на такие фигуры, как Старший Лесничий. Однако всякий раз, когда свободный дух завоевывает господство, то и аборигены тянутся к нему, как тянутся змеи к открытому огню. Они – старые знатоки власти, они чуют приближение