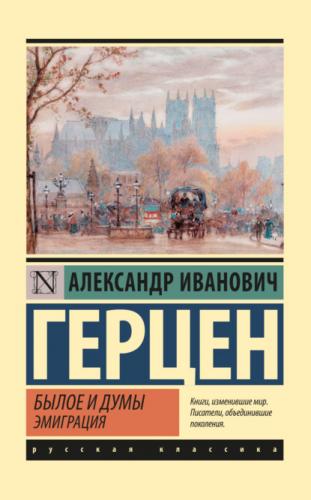Ребенок этот был одарен необыкновенными способностями: вечная тишина вокруг него, сосредоточивая его живой, порывистый характер, славно помогала его развитию и вместе с тем изощряла необычайно пластическую наблюдательность: глазенки его горели умом и вниманием; пяти лет он умел дразнить намеренно карикатурно всех приходивших к нам, с таким комическим тактом, что нельзя было не смеяться.
В полгода он сделал в школе большие успехи. Его голос был voilé[217], он мало обозначал ударения, но уже говорил очень порядочно по-немецки и понимал все, что ему говорили с расстановкой; все шло как нельзя лучше. Проезжая через Цюрих, я благодарил директора и совет, делал им разные любезности, они – мне.
Но после моего отъезда старейшины города Цюриха узнали, что я вовсе не русский граф, а русский эмигрант и к тому же приятель с радикальной партией, которую они терпеть не могли, да еще и с социалистами, которых они ненавидели, и, что хуже всего этого вместе, что я человек нерелигиозный и открыто признаюсь в этом. Последнее они вычитали в ужасной книжке «Vom andern Ufer», вышедшей как на смех у них под носом, из лучшей цюрихской типографии. Узнав это, им стало совестно, что они дают воспитание сыну человека, не верящего ни по Лютеру, ни по Лойоле, и они принялись искать средств, чтоб сбыть его с рук. Так как провидение в этом вопросе было заинтересовано, то оно им тотчас и указало путь. Городская полиция вдруг потребовала паспорт ребенка; я отвечал из Парижа, думая, что это простая формальность, что Коля действительно мой сын, что он означен на моем паспорте, но что особого вида я не могу взять из русского посольства, находясь с ним не в самых лучших сношениях. Полиция не удовлетворилась и грозила выслать ребенка из школы и из города. Я рассказал это в Париже, кто-то из моих знакомых напечатал об этом в «Насионале». Устыдившись гласности, полиция сказала, что она не требует высылки, а только какую-то ничтожную сумму денег в обеспечение (caution), что ребенок не кто-нибудь другой, а он сам. Какое же обеспечение – несколько сот франков? А с другой стороны, если б у моей матери и у меня не было их, так ребенка выслали бы (я спрашивал их об этом через «Насиональ»)? И это могло быть в XIX столетии, в свободной Швейцарии! После случившегося мне было противно оставлять ребенка в этой ослиной пещере.
Но что же было делать? Лучший учитель в заведении, молодой человек, отдавшийся с увлечением педагогии глухонемых, человек с основательным университетским образованием, по счастию, не делил мнений полицейского синхедриона и был большой почитатель именно той книги, за которую рассвирепели благочестивые квартальные Цюрихского кантона. Мы предложили ему оставить школу и перейти в дом моей матери, с тем чтобы ехать с ней в Италию. Он, разумеется, согласился. Институт взбесился, но делать было нечего. Мать моя с Колей и Шпильманом отправилась в Ниццу. Перед отъездом она послала за своим