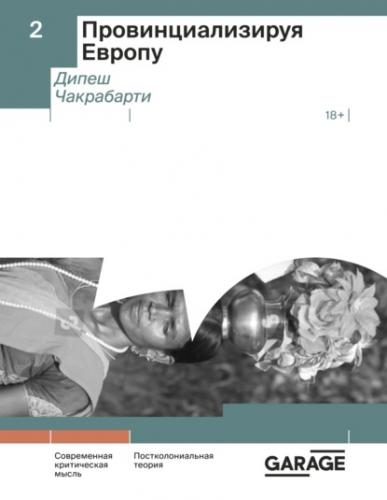Историцизм и, более того, модерное, европейское понимание истории пришли к неевропейским народам в XIX веке как человек, который приходит к другому со словами «пока нет»[29]. Возьмем классические либеральные, но историцистские труды Джона Стюарта Милля «О свободе» и «Размышления о представительном правлении». В этих работах он провозгласил самоуправление как высшую форму правления. Одновременно с этим Милль возражал против предоставления самоуправления жителям Индии или Африки, по сути, на историцистском основании. По его словам, индийцы и африканцы «еще не» достаточно цивилизованны, чтобы управлять самостоятельно. Должно пройти какое-то историческое время, требующееся на развитие и цивилизацию (колониальное управление и образование, если говорить точнее), прежде чем можно будет счесть их готовыми к решению подобной задачи[30]. Историцистские аргументы Милля помещают индийцев, африканцев и другие «варварские» народы в воображаемый зал ожидания истории. И, поступая так, он превращает всю историю в некое подобие зала ожидания. Мы все движемся к одной и той же конечной точке, заявляет Милль, но одни народы достигли ее раньше других. С точки зрения сторонников историцизма, жителям колоний рекомендовалось подождать. Обретение исторического самосознания, обретение общественного духа, который Милль считал абсолютно необходимым для искусства самостоятельного управления, – всё это также требовало обучения искусству ожидания. Ожидание служило реализацией принципа «еще не», провозглашенного историцизмом.
Антиколониальные демократические требования самоуправления, зазвучавшие в XX веке, напротив, во временно́м горизонте действия упирали на «прямо сейчас». Со времен Первой мировой войны и вплоть до движения за деколонизацию пятидесятых и шестидесятых годов антиколониальные национализмы опирались на срочность этого «сейчас». Историцизм не исчез с лица земли, но его «еще не» сегодня вступает в противоречие с глобальным требованием «прямо сейчас», характерным для всех народных движений за демократию. В поиске массовой поддержки антиколониальные национальные движения неизбежно вводили в сферу политического широкие классы и группы, которые по стандартам европейского либерализма XIX века не могли считаться подготовленными к политической ответственности за самостоятельное управление государством. Это были крестьяне, туземцы, полу- или неквалифицированные промышленные рабочие в незападных городах; мужчины и женщины из подчиненных социальных групп – короче говоря, все субалтерные классы третьего мира.
Критика историцизма обращается к базовому вопросу о политической модерности незападного мира. Как я более подробно покажу ниже, европейская политическая и общественная мысль как раз и создавала пространство для политической модерности субалтерных классов, прибегая к той или иной