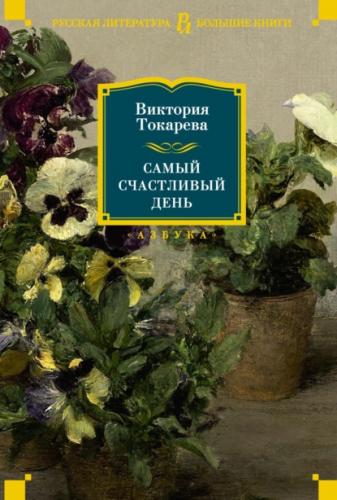На улице сумерки – тот час, когда вечер смыкается с ночью. Между мной и горизонтом сплошной стеной стоит лес, там живут волки. По ночам они приходят в Арти и воют под окнами от голода.
Я бегу по дороге и боюсь волков, боюсь мертвой Веры. Я как бы погружаюсь в предчувствие погони и бегу между избами, которые глядят из снега желтоватыми уютными окнами.
Я бегу к Мильке, чтобы показать ей булку, потому что, если я ее сейчас съем, булки не будет и никто не поверит в то, что она была.
– Милька… – громким шепотом зову я. Жду немного и снова: – Милька…
Милька появляется в окне и тут же исчезает, идет открыть мне дверь.
Мы заходим в сени. Дверь в комнату прикрыта неплотно, и оттуда, как половик, тянется по полу желтая полоса, а Милька стоит на конце этой полосы. Она не отрываясь смотрит на булку и молчит. Я отламываю ей половину булки. Милька не отдирает снизу полупрозрачные полосочки, а широко кусает и тут же почти глотает, не слушая запахов мирной жизни, которые бушуют у нее во рту. Снова кусает и снова глотает. А потом смотрит молча, и я отдаю ей вторую половину булки.
– А ты? – спрашивает Милька, задерживаясь глазами на моем лице.
– Я уже ела, – беспечно говорю я. – Пять штук…
Милька верит и ест вторую половину булки. Она верит сейчас и в пять булок, и в манную кашу, и в редиску.
Я вздыхаю и иду из сеней на улицу. Отойдя немного, оборачиваюсь на Милькино окно, вижу в нем темный круг ее головы и думаю о Мильке недоброжелательно, и тут же понимаю, что нехорошо так думать, и стесняюсь своих мыслей.
Великое и мелкое свободно умещаются в моей душе.
Мама сидит на кухне и вышивает блузку. Светка примостилась на деревянном чурбачке, спиной к печке. А тетя Нина опять читает письмо от самой себя. Полгода назад она получила похоронную, и теперь ей обратно приходят письма, которые она посылала своему мужу Павлу.
В письме говорится о том, что тетя Нина со Светкой живут хорошо, у них все есть и ничего им не надо. Дальше тетя Нина пишет мужу про него самого – какие у него руки, глаза, голос, как он сердится или смеется. Когда он держит папиросу, то кончики пальцев у него немножко отогнуты, а на среднем пальце кожа коричневая от табака, будто ее помазали йодом. И руки у него пахнут табаком. А ходит он прямо, не сутулится, держит кулаки в карманах и шаркает тапками по полу. А когда он играет на гитаре и поет, то лицо у него туманное, и, если не хватает голоса, он качает головой и немножко улыбается, как бы извиняясь, а сам в это время все равно поет. Виски у него стройные, как у молодого коня, и глаза – горячие, добрые и большие, тоже как у коня.
Мама вздыхает, и мне обидно, что дядя Павел похож на лошадь, к тому же шаркает, и голоса не хватает, и руки в табаке.
А Светка