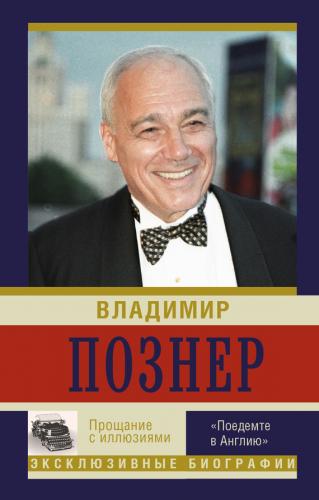Маршак не мог наговориться, рассказывая о гениальной простоте поэзии Твардовского, о сочном народном языке, о его выразительности.
Чаще всего Самуил Яковлевич приводил в качестве примера вот эти строчки:
Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда…
Кому память, кому слава,
Кому темная вода, –
Ни приметы, ни следа.
И в самом деле, точнее не скажешь, за несколькими словами возникает целая картина. Просто? Да. И непереводимо. Как, в частности, непереводим Пушкин – не в том смысле, о котором я уже писал, а в своей простоте. Самое короткое расстояние между двумя точками – прямая линия. Ее не улучшишь, ее по-другому не изложишь. Я читал множество переводов Пушкина на английском языке, и не было ни одного, который хоть в чем-то напоминал его. Все слишком просто, слишком гениально. Сравниваю ли я Твардовского с Пушкиным? Нет, конечно. Но отношусь с презрением к снобам, которые смотрят на Твардовского свысока, считая его слишком доступным, недостаточно элитарным, понятным и без ученой степени. Смех, да и только! Самое великое искусство просто, как Эверест, как океан, как огонь. В простоте той – красота, мощь, бессмертие и непостижимая сложность.
Твардовский нередко заходил к Маршаку, и мне было позволено сидеть тихо в углу и слушать их беседы. Как и большинство советских людей, Александр Трифонович в свое время восхищался Сталиным и безмерно верил ему. Но в отличие от многих, он сам же подверг эту веру сомнениям. В результате родилась поразительная поэма «За далью даль». Самое первое чтение этой работы, еще в рукописи, состоялось в кабинете Самуила Яковлевича, и я имел счастье присутствовать при нем. Это лишь один из множества примеров того, какими уникальными были мои обстоятельства, благодаря которым я имел возможность непосредственно слышать и слушать литературу и рассуждения корифеев того времени.
Кроме того, мне позволялось находиться в «лаборатории» Маршака, в его кабинете, когда он писал. Я был свидетелем того, как он работал, как раз за разом правил, перечеркивал, начинал с начала и вновь перечеркивал. Писательство – дело трудное, это знают все, это, так сказать, общее место; но чтобы понять, насколько оно трудное, надо увидеть муки сидящего за столом. Маршак садился за стол в девять утра и выходил из-за него в девять вечера, он работал как одержимый, доводя себя до полного изнеможения в поисках точного слова, точной рифмы. Самуил Яковлевич уже был на литературном олимпе, ему не требовалось никому ничего доказывать, все, что он писал, печаталось без разговоров. Словом, он мог не стараться. А он трудился на пределе своих возможностей. Художник иначе не может, художник –