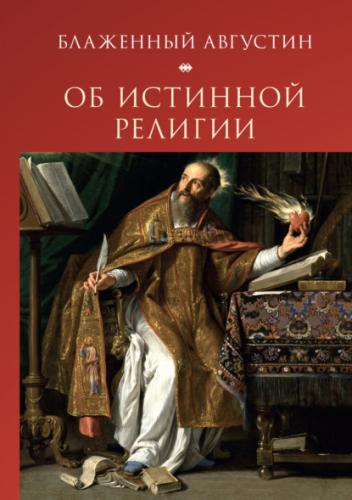А что, если глупый даже превзойдет его? Не будет ли стыдно? Я остановлю, например, этого академика, когда он уже будет выходить из суда. Ведь глупость более жадна к славе этого рода. Итак, задержав его, я открою судьям то, чего они не знают. Я скажу им: почтенные мужи, я имею с ним то общее, что оба сомневаемся, кто из вас держится истины. Но мы имеем и свои особые мнения, насчет которых я прошу вашего суда. Хотя мне, когда я слышу ваши главные положения, и неизвестно, на чьей стороне истина, но это потому, что я не знаю, кто из вас мудр. А этот не допускает, чтобы и мудрый что-либо знал, не исключая и самой мудрости, от которой носит название мудрого. Кому не ясно, кому достанется пальма первенства? Если противник мой подтвердит это, я превзойду его славой. А если со стыда признает, что мудрый знает мудрость, я одержу над ним победу образом мыслей.
9. Но удалимся из этого трибунала в какое-нибудь место, где нас не беспокоила бы никакая толпа, – о, если бы в ту школу Платона, которая, говорят, от того и получила свое имя, что была для народа недоступна! Здесь, насколько это будет в наших силах, поговорим между собою уже не о славе, что легкомысленно и прилично разве что детям, а о самой жизни и о некоторой надежде на душевное блаженство. Академики отрицают возможность знать что-либо. Откуда у вас такое заключение, люди, преданные науке и ученейшие? “Нас поколебало, – говорят они, – определение Зенона”. Отчего так, спрашиваю? Ведь если оно истинно, то знал ведь нечто истинное тот, кто, по крайней мере, знал это определение. А если оно ложно, то не должно было никак поколебать людей постояннейших.
Но посмотрим, что говорит Зенон. Ему кажется, что может быть познано и воспринято только нечто такое, что не имело бы признаков, общих с ложным. Это ли побудило тебя, человек школы Платоновой, отнимать всеми силами у желающих учиться надежду научиться, чтобы при помощи некоторой, достойной плача умственной оцепенелости они оставили всякое занятие философией? “Но как-де оно не побудило бы его, если он ничего такого найти не может, а, между тем, может воспринять только такое?” Но если это так, то следовало лучше сказать, что мудрость недоступна человеку, чем говорить, что мудрый не знает, для чего живет, не знает, каким образом живет, не знает, живет ли, и наконец, превратнее, бестолковее и глупее чего нельзя придумать, что он одновременно и мудр, и не знает мудрости. Не тверже ли то положение, что человек не может быть мудрым, чем то, что мудрый не знает мудрости? Не о чем будет и спорить, если дело поставлено так, что рассуждений не требует. “Но если так будет сказано, люди-де могут совершенно бросить философию; а теперь они должны быть вводимы в заблуждение приятнейшим и святейшим именем мудрости”. Но для чего? Чтобы, потратив годы жизни и ничему не научившись, осыпать потом страшными проклятиями тебя, последовав которому они лишились каких бы там ни было удовольствий телесных, а приобрели терзания душевные.
Но на самом деле, кто более