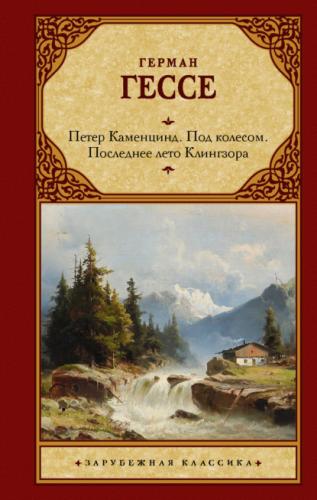– Что вы сказали? – переспросил я.
– Я говорю, что теперь мне понятно, каким искусством вы занимаетесь.
– Каким же?
– Вы – поэт.
Я вспыхнул от смущения и досады и одновременно поразился его проницательности.
– Нет! – воскликнул я. – Я не поэт. Правда, я сочинял стихи в гимназии, но уже давно бросил.
– Могу ли я взглянуть на них?
– Я их сжег. Но даже если бы они у меня были, я бы их вам не показал.
– Это, наверное, было что-нибудь очень модное, в духе Ницше?
– А что это такое?
– Ницше? Боже милостивый! Вы его не знаете?
– Нет. Откуда же я могу его знать?
Он был в восторге от того, что я не знаю Ницше. Я же, рассердившись, спросил его, сколько ему довелось пересечь ледников. И когда он ответил, что ни одного, я, в свою очередь, тоже изобразил насмешливое удивление. Тогда он положил мне руку на плечо и серьезно произнес:
– Вы очень чувствительны. А между тем вы даже не подозреваете, что могли бы гордиться своею завидной неиспорченностью и что такие люди, как вы, – большая редкость. Через год или два вы будете знать и Ницше, и прочий вздор еще лучше, чем я, потому что вы основательнее и умнее. Но вы мне нравитесь именно таким, каков вы теперь. Вы не знаете Ницше и Вагнера, зато вам хорошо знакомы снежные вершины и у вас такое интересное горское лицо. И к тому же вы совершенно определенно поэт. Об этом мне говорят ваши глаза и ваш лоб.
То, что он так откровенно, без стеснения меня разглядывал и прямодушно выкладывал свое мнение, тоже удивило меня и показалось мне странным.
Однако еще более удивил и осчастливил он меня, когда в одном модном открытом ресторанчике, восемь дней спустя, он, выпив со мною на брудершафт, вскочил на ноги и при всех обнял, поцеловал меня и, как сумасшедший, закружил вокруг столика.
– Что о нас подумают люди! – робко заметил я.
– Люди подумают: эти двое или безмерно счастливы, или безмерно пьяны; большинство же из них и вовсе ничего не подумает.
Вообще говоря, Рихард, несмотря на то что был старше и умнее меня, лучше воспитан и во всем более ловок и тонок, чем я, все же часто казался мне настоящим ребенком. На улице он с насмешливой торжественностью заигрывал с девчонками-подростками; музицируя, он мог серьезнейшую вещь оборвать какой-нибудь совершенно нелепейшею, детскою шуткой, а когда мы с ним как-то раз забавы ради вместе отправились в церковь, он вдруг посреди проповеди задумчиво и важно произнес:
– Послушай, ты не находишь, что священник похож на состарившегося кролика?
Я же, про себя отдав должное меткости сравнения, заметил, что он мог бы сказать мне об этом и после.
– Но если это так и есть! – обиженно надул губы Рихард. – А до конца службы я бы наверняка уже об этом позабыл.
То, что шутки его далеко не всегда были остроумны, а зачастую и просто сводились к цитированию той или иной стихотворной строки