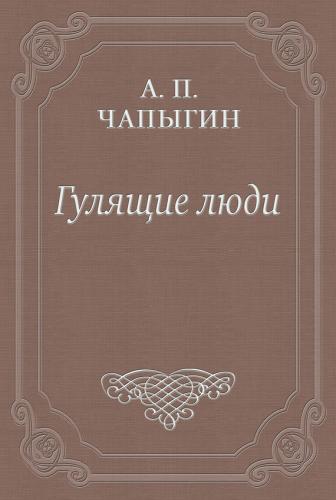Сам я ее зрел срамно обнаженну, без рубахи! Власы блудницы, грех молыть, распущены были поверх наготы ее. Главы покров покинут был у ложа! И тебе бы, боярин, друже, помня власть свою и ее женстее дело и чтя жену яко младеня, поучить бы плеткою. Беды от того не бывает, но память малопамятному уму вложити довлеет. И так бы я содеял с ней, вздев в рубаху хамовую, мокрую, и посек бы без людей в спальне ее. Скрозь мокрое тканье ран, а паче рубцов на теле не бывает, то ведано мной, не единожды было пытуемо… Всяко лишь силу свою умерь, себя не возожжи и на плеть налегай не шибко! Никон».
Бледное лицо боярыни порозовело, она сказала негромко, шагнув к столу:
– Он меня указует плетью бить? Он, кой меня увел от честна мужа, кто первый обнажил мою наготу от волос до пят, щадил лишь кику на голове, а обнаженны груди и брюхо мазал маслом, крестил и… клал на свое ложе… да, все…
– Малка! Умолчи, умолчи же! – Боярин приник над столом, скрыл глаза.
– А, нет! Если разожгли – вот… Брата Григория Зюзина сняли с воеводства, били кнутом по государеву указу… да разве быть Григорию силой в брата Никиту?.. Кто помогал Григорию сильно брать казну государеву, напойную, грабежом у голов кабацких и целовальников? А пошто Никиту не били? А пошто Никита покрыт и кем покрыт? И за што покрыт?
– Умолчи, змея!
– Святейший, он второй государь! А дары? Соляные варницы, поташные, будные обжиги… боярин Никита знает, за что ему те дары?..
Боярин поднял голову, кулаками стукнул в стол и крикнул:
– Замолчи! Уйди от меня! Бить тебя не буду, но ежели прилучится захватить в твоем терему какого-либо шиша, то обоих вас свяжу и кину на яство медведю живых, как царь Иван Васильевич досель наряжал.
Боярыня ушла. Зюзин принялся пить меды хмельные, мешая с водкой, ворчал под нос:
– Ума не занимать святейшему, а вот поди – должно, ревность и умника дураком ставит?.. – Поглядел на свои лапы боярин, подумал: «Такими клещами только медведей брать добро, жену, да еще любимую, да еще умницу… нет, патриарх, нет!.. А ну-ка, поглядим, как там полонянник?» Боярин встал.
Зюзин, хмельной, но твердо и тяжело стоящий на ногах, вошел в безоконный подклет к медведю. Было темно и вонюче, только калеными угольками горели в темноте глаза зверя.
– Гой, доезжачий!
– Тут я, боярин!
– Огню дай, да прихвати кожаные рукавицы с завязками у пястья, да чуй – гуж сыромятной дай!
– Даю, боярин!
В синем кафтане, зеленеющем от огня двух факелов, в иршаных желтых сапогах осторожно вошел малобородый доезжачий. Он воткнул факелы, вонявшие копотью, за жердь, приколоченную