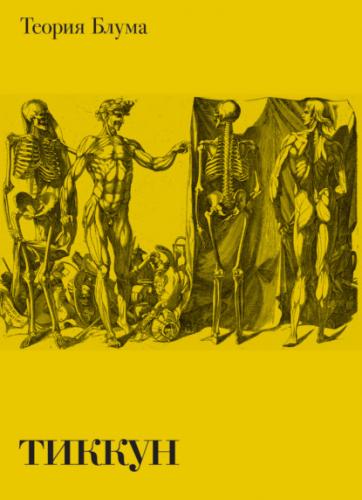низкой субъективностью, с какой можно сказать, что кафкианские
люди – то же самое, что кафкианский
мир. Блум являет нам фигуру, метафизически лишённую отличий, что выражается во всём сущем и формирует его материю. Ведь «тот, кто сам собой ничего не представляет, ничего не находит и снаружи» (Блох, «Дух утопии»), и не потому, что все окружающие предметы волшебным образом исчезли, а потому, что для него просто-напросто больше нет никакого «снаружи». Блум перешагнул ту границу отчуждённости от самого себя, после которой любые различия между его «я» и непосредственным окружающим его контекстом теряют чёткие очертания. Взгляд его – это взгляд человека, который
ничего не узнаёт. Под этим взглядом всё ускользает и теряется в пустопорожних волнах объективных связей, где «жизнь проявляется негативным образом, в безразличии, безличности, отсутствии свойств» (Кометти, «Роберт Музиль»). Блум живёт в бесконечном подвешенном состоянии
[9] – так, что даже его собственные чувства ему не принадлежат. Именно поэтому он ещё и тот человек, которого ничто больше не оградит от пошлости мира. Он оказался во власти бескрайней ограниченности, оголил всю поверхность своего существа, и единственное место, где ему удалось найти прибежище – это глухой гул, и гул этот катится вперёд. Такое блуждание ведёт его от Подобного к Подобному по тропам Тождественности, поскольку куда бы они ни шёл, он повсюду носит внутри пустыню, в которой он же и отшельник. И пусть он, как Агриппа Неттесгеймский, клянётся, что он – «вся вселенная», или же утверждает куда более простодушно, как Краван, что он – «все вещи, все люди и все звери»
5, везде он видит лишь пустоту, которая наполняет его самого. Но это ничто совершенно реально – настолько, что всё сущее рядом с ним становится призрачным.
Als ob[10]
Уничтожение «я» также означает уничтожение реальности в том виде, в каком она существовала до сих пор, хотя, быть может, в обоих случаях вернее было бы говорить о подвешенном состоянии. Как не осталось больше никакой гармонической нравственности, которая могла бы обосновать иллюзию «самобытного» «я», точно так же исчезло и всё, что давало веру в однозначность жизни или в формальную позитивную направленность мира. А потому, как бы Блум ни настаивал на собственной «практичности», его «чувство реальности» – это лишь ограниченная разновидность чувства возможности, представляющего собой «способность думать обо всем, что вполне могло бы быть, и не придавать тому, что есть, большую важность, чем тому, чего нет» (Музиль, «Человек без свойств»)6. Блум говорит: «Все мои дела и мысли – лишь Образец моих возможностей. Человек шире собственной жизни и собственных поступков. Он словно создан для больших вероятностей, чем те, о существовании которых ему может быть известно. Г-н Тэст говорит: Мои возможности никогда меня не покидают» (Валери, «Господин Тэст»). Все происходящие с ним ситуации несут в этом своём единообразии бесконечно повторяемую печать необратимого «как будто». «Затерявшись в далёких