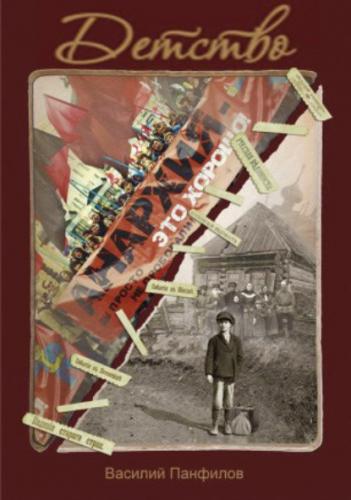– Вот же же! – Чуть в сердцах ногой сито с золой не опрокинул. Не успел!
Прасковья Леонидовна обленилася до крайности, и манеру завела ну таку противну! Придёт когда с церквы иль ещё откуда, где долго на ногах стояла, и зовёт меня – чтоб я ноги ей мыл, значица. Не мущщинское дело, совсем не мущщинское!
Не матушка она мне, не сродственница кака и не болящая. Так бы оно и понятно. Неприятственно, но понятно. Чтой-то за родной кровью не походить, значица? А тут… тьфу!
– Пошевеливайся! – Подстегнула она меня словесами, рассевшись тяжко на лавке. Хорошо хоть, рассупонилось, скинула одёжку верхнюю.
– Сейчас, Прасковья Леонидовна, – Спешу уже к печке, на ей чугунки с водой завсегда стоят на всяко-разные нужды хозяйственные. Знаю уж, что делать надо!
Шайку липовую ей под ноги, да воды налить тёплой. Потом валенки с ног и дальше, значица.
Хозяйка, пошевелив отёкшими белыми ногами с шишковатыми пальцами, сунула их в воду. Теперя мыть…
Что делать не надобно, я тоже знаю. Не морщиться, хучь ноги у ей и вонючие, как не у всякого мужика. Дмитрий Палыч, когда печку под вечер протапливаем, опорки иной раз и скидывает, босиком ходит-то. Ничего, в омморок от смрада упасть не хоцца. Не цветочками пахнет, вестимо, но и ничего так. Обычный мужицкий запах.
– Разминай, разминай как следует! – Мну толстые шишковатые ступни, не поднимая головы, учён уже. Взгляд у меня дерзкий, а хозяйка того не любит. И эта… мимика! Что мне не по ндраву, всё на лице, будто буковками писано. Крупными, как на вывесках. Потому старики и не любили-то.
Глаза-то я прикрыть могу, да и вообще не пялиться. А морду как отвернёшь-то? Поставят, бывалоча, перед собой, да наругивают за что-то, что я по беспамятству и не понимал-то. Глаза если и опущу, то мимика эта треклятая всё одно выдавала, что я о том говорильщике думаю.
А что хорошего думать-то можно, коли тебя ругают, а ты и не понимаш, за что? То-то! Чисто заноза в глазу такой малец у любого годящего мужика.
Постарше был бы, так в солдаты сдали б, чтоб избавиться. А меня вот в ученье, чтоб только не видеть, значица.
– Хватит! – Быстро хватаю чистую холстину и вытираю, – Посильней, посильней три, пущай кровушка по жилкам пробежится… ай! Ирод окаянный, что ж ты жмакаешь до синцов?!
Оплеуха «для порядку», и хозяйка, обув опорки с моей помощью, уходит к себе, переваливаясь уткой. За зиму она ишшо больше раздобрела да отяжелела, хотя и без того чисто квашня рыхлая. А чего ж не раздобреть-то, коль почти всю работу по дому на меня свалила-то?
Подхватив лохань, вынес во двор, да и выплеснул в сторонку. Вернулся, глянул на мастера, а ён сквозь меня глядит. Ну значица, не нужон! Значица, подале сбежать надоть, пока супружница его что-нито не придумала.
Наскоро вытер разбрызганное, пока девчонки хозяйские в лужу-то не влезли и развозюкали, и бегом! Зипун на ходу подпоясываю, шапку на затылок, и вперёд!
Работу-то она, значица, на меня переложила, и от безделья теперь куражится. Сбёг