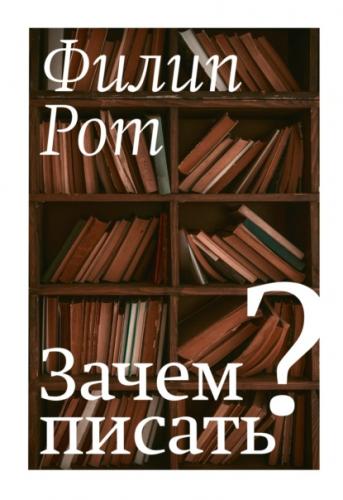Тишина. Должно быть, тетя Рода вышла в центр кухни. Она произносит с легким удивлением: «Отец умер ровно год назад, как раз в этот день…» «Тише! – шикает мама. – Из‐за тебя малышу будут сниться кошмары!»
Не я один вижу, что моя тетя за недели репетиций стала «другим человеком». Мама говорит, она сейчас такая же, как в детстве: «Щечки раскрасневшиеся, щечки всегда у нее горели – и все у нее вызывало восторг, даже купание в ванне». «Она успокоится, помяни мое слово, – говорит отец, – и тогда он сделает предложение». «Постучи по дереву», – отзывается мама. «Да перестань ты! – машет рукой отец. – Он знает, с какой стороны мазать масло на хлеб, – стоило ему войти в наш дом, и он сразу увидел, что мы за семья, и поверь мне, слюнки у него так и текут. Ты только погляди, с каким выражением лица он садится в это кресло. Мечта Франца Кафки исполнилась». «Рода говорит, что в Берлине, еще до Гитлера, у него была молодая подруга, они встречались много лет, и она от него ушла. К другому. Она устала ждать». «Не беспокойся, – уговаривает отец. – Всему свой срок, наступит момент, и я его слегка подтолкну. Он ведь тоже не собирается жить вечно, и не думай, что он сам этого не понимает».
И вот как‐то в воскресенье, чтобы немного разрядиться и снять «напряжение» от утомительных вечерних репетиций – а их доктор Кафка регулярно посещает и стоит в шляпе и пальто у последнего ряда, не отрывая взгляда от сцены, пока не приходит пора провожать Роду домой, – они вдвоем отправляются в Атлантик-Сити. С того дня, как он ступил на эту землю, доктор Кафка мечтал увидеть знаменитую дощатую набережную и лошадь, ныряющую в океан с вышки[11]. Но во время их поездки в Атлантик-Сити что‐то произошло, о чем мне не позволено знать и все обсуждения этого происшествия в моем присутствии ведутся на идише. Доктор Кафка пишет тете Роде четыре письма за три дня. Она приходит к нам на ужин и, сидя на кухне, плачет до глубокой ночи. Она звонит по телефону в Общество еврейской истории и (плача) сообщает, что ее мама больна и она снова не сможет прийти на репетицию – и, возможно, ей вообще придется сняться со спектакля. Нет, она не может прийти, не может, мама очень больна, она сама очень расстроена, до свидания! Она возвращается за кухонный стол и продолжает рыдать. На ее щеках нет розовой пудры, а на губах – красной помады, и ее распущенные каштановые волосы торчат во все стороны жесткими пучками, точно у новенькой метлы.
Мы с братом слушаем из кроватей через щелочку, которую он оставил, неплотно прикрыв дверь.
– Вы когда‐нибудь… – говорит сквозь слезы Рода, – вы когда‐нибудь…
– Бедняжка, – вздыхает мама.
– Кто? – шепчу я брату. – Тетя Рода или…
– Тихо! – шипит он. – Молчи!
Из кухни доносится хмыканье отца:
– Хм…