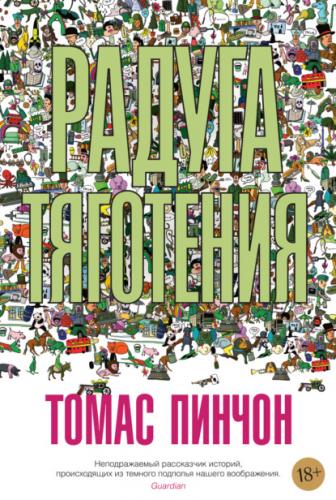– Неужто я, – снова шепчет он в стекло, с придыханием, последние взрывные согласные затуманивают холодное окно веерами дыхания, теплого, безутешного дыхания, – так горд?
Никак невозможно, ему невозможно пройти по этому вот коридору, и намекнуть невозможно, даже Мехико, как ему их не хватает… хотя он был едва знаком с Дромоном или Остерлингом… но… не хватает Аллена Фонарера, который, знаете, готов был биться об заклад о чем угодно, о собаках, грозах, трамвайных номерах, о ветре на углу и какая, скорее всего, будет юбка, и как далеко пролетит эта, скажем, «жужелица», пожалуй… о господи… даже эта, которая на него упала… Пуммов кабинетный рояль и пьяный баритон, интрижки с медсестрами… Спектро… Отчего ж невозможно попросить? Когда есть сотня способов сказать…
Надо бы… надо было… В его истории так много несделанных ходов, так много «надо было» – надо было на ней жениться, чтоб ее отец им руководил, надо было остаться на Харли-стрит, быть добрее, чаще улыбаться чужим людям, даже днем сегодня улыбнуться Моди Чилкс… чего ж он не смог? Дурацкая, черт возьми, улыбочка, почему нет, что́ подавляет, какая путаница в мозаике? За этими казенными очками – красивые янтарные глаза… Женщины его избегают. В общем и целом он знает, в чем дело: он жуткий. Обычно он даже сознает те минуты, когда жуток, – некое напряжение лицевых мускулов, склонность потеть… но он, пожалуй, не в силах ничего с этим сделать, не в силах даже сосредоточиться надолго, чтобы хватило, они его так отвлекают – и опа, он опять излучает эту свою жуть… а их реакция предсказуема, они бегут, исторгая вопли, слышные только им – и ему. Ох, но как хочется однажды дать им повод завопить по правде…
А вот и стояк копошится, нынче Стрелман опять убаюкает себя дрочкой. Безрадостная константа, атрибут его бытия. Но раззадоривая его, перед самым ослепительным пиком – какие примчатся картины? Ну как же: башенки и голубая вода, паруса и церковные маковки Стокгольма – желтая телеграмма, лицо высокой, компетентной и прекрасной женщины, обернувшись, следит, как он проезжает мимо в церемониальном лимузине, – женщины, которая позже и вряд ли нечаянно посетит его в номере «Гранд-отеля»… не всё же, понимаете ли, рубиновые соски́ и черные кружавчики граций. Приглушенные вступления в комнаты, пахнущие бумагой, сопутствующее голосование в таком или сяком Комитете, Кафедры, Премии… что может сравниться! Вот подрастешь – тогда узнаешь, говорили ему. Да, и оно давит, каждый военный год равен дюжине мирных, ох батюшки, как они были правы.
А его везенье давно известно, его подкорковое, скотское везенье, дар выживания, а прочих, лучших, тем временем крадут в Смерть, и вот она, дверца – дверца, которую он так часто воображал в одиноких Тесеевых шатаньях лощеными коридорами лет: выход из ортодоксально-павловского, что являет ему виды Норрмальма, Сёдермальма, Оленьего парка и Старого города…
Вокруг