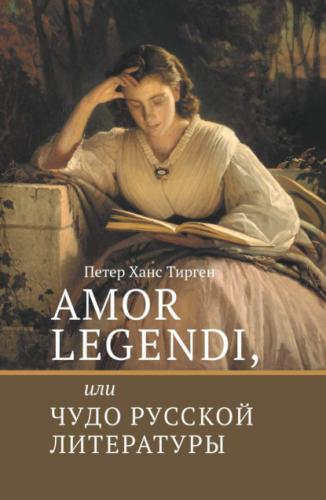Теперь можно было бы возразить, что использование, даже нагромождение, символических отсылок в первом романе Тургенева имело случайный характер. Однако подобное возражение в корне не согласуется с представлением о свойственных его манере письма чрезвычайно упорядоченной технике композиции и отточенном стиле, равно как и с фактами, свидетельствующими о знакомстве Тургенева с антологией «Символы и эмблемы». Подобно символистам, Тургенев был в определенном смысле конструктором от поэтики. В письме к Сергею Аксакову от августа 1855 г. он сообщает о творческой истории романа «Рудин»:
Я воспользовался уединением и бездействием и написал большую повесть ‹…› я ни над одним моим произведением так не трудился и не хлопотал, как над этим; конечно, это еще не ручательство; но по крайней мере сам перед собою прав. Коли Пушкины и Гоголи трудились и переделывали десять раз свои вещи, так уж нам, маленьким людям, сам Бог велел (П., II, 304).
Этот отзыв вовсе не единственный. Тургенев постоянно утверждал, что писателю, наряду с творческим воображением, требуется, прежде всего, образование и начитанность, упражнения в технике ремесла и мастерство. Он многократно и открыто признавал: «Не обладая большою долею свободной изобретательности, я всегда нуждался в данной почве, по которой я бы мог твердо ступать ногами» (С., XIV, 97).
Несомненно, именно такая твердая почва лежит в основе тургеневской манеры художественного письма, ориентированного на образ и символ. В вышеупомянутой статье 1854 г. «Несколько слов о стихотворениях Ф.И. Тютчева» Тургенев определил задачу истинной поэзии: объединять мысль и чувство в едином образе, а не распространяться в абстрактно-претенциозной рефлексии[260]. Это мнение постоянно укрепляется, и в программном предисловии к собранию романов 1879 г. оно отливается в афористически точной формуле: «Всем известно изречение: поэт мыслит образами; это изречение совершенно неоспоримо и верно» (С., XII, 310. Курсив Тургенева. – П. Т.). Далее, через несколько фраз, следует