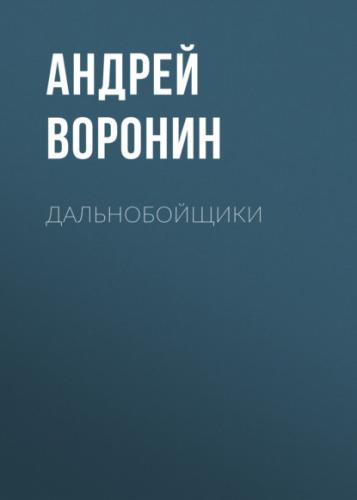В который уже раз Воронин обвел взглядом обитую красным деревом приемную, ровные ряды стульев с высокими спинками – остатки старинного гарнитура, сделанного в середине прошлого века. Ходили слухи, что раньше эта мебель находилась в Кремле, возможно даже в приемной самого Берии, и тысячи обреченных, сидя на этих стульях, томились в ожидании решения своей судьбы. Будучи наслышан о пристрастии Круглова к подобного рода вещицам, Воронин охотно верил этим слухам, тем более что историю висевшей в приемной картины – портрета Феликса Дзержинского – он знал очень хорошо. Более полувека она красовалась на самом видном месте в кабинете главы КГБ. Затем, после перемен, перекочевала к генералу Круглову. Совсем не потому, что Семен Федорович являлся отпетым коммунистом, а по причине того, что он считал: историю, какой бы она ни была, нужно уважать.
Размышляя о прошлом окружавших его вещей и о превратностях судьбы, Воронин незаметно переключился на себя. Мысли, как всегда, приходили на ум не самые приятные. Ему уже сорок два года, а он все еще один, без семьи, без детей. И если в плане карьеры маячила реальная перспектива получить очередное звание и занять генеральское кресло, когда Круглов получит повышение, то в личной жизни ему грозила старость в полном одиночестве. С каждым годом боязнь этого, таившаяся где-то глубоко внутри, становилась все острее. Он загружал себя работой, оставлял время только на сон и еду, но и это не помогало. Когда выдавалась свободная минута, мысли о грядущем одиночестве неизменно возвращались. Так было и сейчас.
Прошло еще десять минут.
Услышав тихий скрип отворяемой двери, полковник Воронин встрепенулся. Из кабинета вышел невысокого роста сутулый старик. Редкие седые волосы были аккуратно зачесаны назад. Испещренное глубокими морщинами лицо выражало глубокую боль и печаль. Одет он был подчеркнуто элегантно: идеально подогнанный без единой лишней морщинки костюм, белоснежная рубашка, строгий галстук. Ничего лишнего. Все безупречно. От него за версту веяло ощущением собственного достоинства и превосходством над другими.
Чувствовалась старая закалка. Воронин на дух не переносил подобных людей. К несчастью, в начале своей карьеры ему довелось вплотную с ними столкнуться, и неприятный осадок сохранился на всю жизнь. Такие, как этот, принадлежали к самой верхушке, к элите, жившей в своем собственном мирке, по своим правилам. Все остальные люди для них не существовали. Их называли просто – народ. Безликий безропотный народ.
Или попросту – толпа. А они ей управляли, как пастухи стадом глупых баранов.
Проходя мимо, старик смерил Воронина долгим изучающим взглядом. Это был взгляд человека, привыкшего к беспрекословному повиновению, но в то же время глубоко несчастного. Полковнику стало по-человечески жаль его. Как вымирающий реликт, старик олицетворял собой минувший век, минувшую эпоху.
«Кто