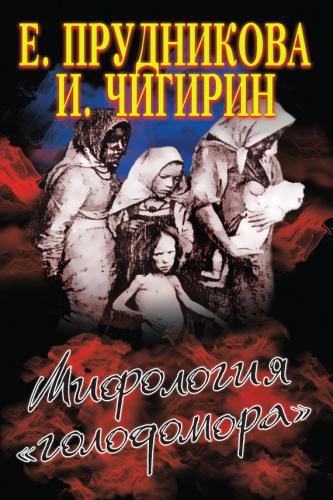Если очень не повезет, таких участков на двор могло прийтись несколько десятков. В результате получалось, что крестьянин не столько работал, сколько мотался между полями. Кроме того, ухудшалась обработка земли. Например, на полоске невозможны были поперечная вспашка и боронование, которые усиливали плодородие полей. Земля на таких участках была просто обречена на дурную обработку. Это и есть чересполосица во всей своей красе. В довершение радости, в общинах практиковались переделы земли – когда участки нарезались по новой. Сроки переделов тоже бывали разными – иногда раз в несколько лет, но случалось, что и каждый год. Крестьянину невыгодно было хорошо ухаживать за землей, которая завтра достанется кому-то другому. Более того, такая практика глушила и старание отдельных хозяев-«передовиков». Чем лучше они удобряли почву, тем сильнее у «мира» было искушение устроить передел и разделить эти хорошо удобренные кусочки. В результате все начинали работать спустя рукава, кое-как.
Еще одно проклятье общины – пресловутая «общинность», то есть необходимость каждому человеку «делать, как все». Если бы речь шла только о накопленной веками мудрости и сельскохозяйственных приемах – так и слава Богу. Но кроме них существовали еще и накопленные веками суеверия, местные праздники, сопровождаемые пьянками, иной раз многодневными. И все это приходилось соблюдать, иначе прослывешь «не таким, как все», со всеми вытекающими отсюда последствиями. Какие тут передовые приемы, какие эффективные технологии!
Собственно «вольных землепашцев», или «фермеров», сельских хозяев, владевших землей, в России было мало. Зато имелся еще один многочисленный слой – государственные крестьяне. Это сословие появилось во времена Петра I – к нему причислили незакрепощенное до тех пор земледельческое население России.
Большей частью «государственным» становилось население тех мест, на которые дворяне не претендовали, – Сибирь, Север, южные границы. Тогда его было немного. По данным на 1719 год, государственных крестьян насчитывалось около миллиона душ, или 19 % всего земледельческого населения страны. Формально они считались свободными, хотя и прикрепленными к земле, фактически же все было сложнее, ибо попробуй проверь, как где-нибудь в Сибири или в Архангельской губернии выполняются государевы указы. Это с одной стороны, а с другой, и население там – пальца в рот не клади: «Закон – тайга, прокурор – медведь».
Потом этот слой увеличивался и уменьшался одновременно. В государственные зачислили крестьян, возделывавших церковные земли после того, как Екатерина конфисковала церковные владения, а также население присоединенных территорий – Прибалтики, Правобережной