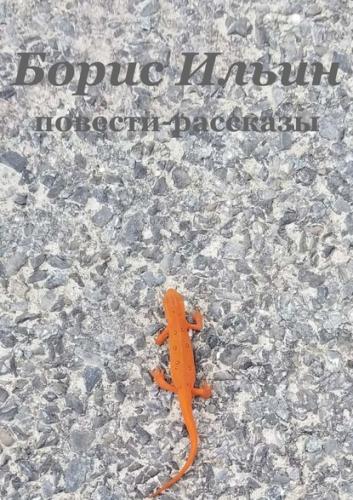Начнем с того, что Ронни умер, а затем заглянем в его жизнь, кто-то ведь должен заглянуть, и видимо придется нам. А вот и сами стихи в приблизительном русском переводе, передающем ритм и общее настроение, но не инстинктивную естественность им свойственную, свидетельствующую о том, как личное переживание переходит в слова для общей скорби. Их никто и не просил, этих женщин, ни сочинять, ни зачитывать, но иначе и быть не могло – они теперь поэты на час, и забудут каково это, как только прочитают свои строки:
Наш добрый милый Ронни,
ты всех оставил нас.
Мы работали с тобой,
и плачем мы сейчас.
Решали все проблемы,
ну а теперь их нет.
От тебя осталась лишь
коробка сигарет.
Собираясь записывать эту жизнь, я почти вижу, как для русского изложения ее обернули в упаковочные прозрачные материалы – какой-нибудь жесткий целлофан; через него все видно, но цвет потускнел, и запаха не слышно, если не считать удушливого запаха самой упаковочной пленки. Оговаривая такое обстоятельство, я всего лишь хочу сообщить, что вся жизнь Ронни, как и мое в ней мелкое участие, происходила по-английски, а русское ее свидетельство заставляет предпринять дополнительное удаление, а может и качественное смещение, позволяющее думать, что это повествование, каковому развернуться далее, имеет мало общего с его героями, да, собственно, и вообще ничего общего не имеет. Ни Ронни, похороненный на семейном участке не где-нибудь, а в Кенсико, ни сам дом с оставшимися обитателями в бруклинском Грейвсенде не будут потревожены, это я могу вам обещать.
Мне рассказали сразу, как только я устроился на работу, что у Ронни сильные перепады настроений. То он ласков и мил, а то вдруг обрезает все телефонные провода в резиденции, выбрасывает оконный кондиционер на улицу со второго этажа, то ляжет на пол и часами будет хрипеть, пускать слюни и умирать. А как приедет скорая, поднимется резво – и словно не было умирания. Он был высок и худ, его пошатывало. Врач порекомендовал ходить с палочкой, но Ронни наотрез. Раз в неделю он собирал