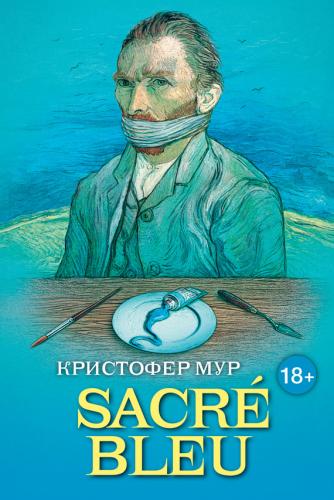Уистлер частенько шутил о своей матушке-пуританке: та в своих еженедельных письмах не уставала ему напоминать, что он разбазаривает свою жизнь и доброе семейное имя, раз ведет в Лондоне жизнь художника.
– Ах, матушка, – по-английски ответил Уистлер. – Она – аранжировка в сером и черном. Ее неодобрение тенью накрывает весь океан. А твоя?
Мане рассмеялся.
– Прячется от стыда и молится, чтоб хотя бы один ее сын занялся юриспруденцией, как отец.
– Матушкам нашим следует выпить вместе чаю и поделиться своими разочарованиями, – сказал Уистлер.
Мане выпустил его руку и повернулся к картине.
– И Салон от нее отказался? Она такая дерзкая. Такая настоящая. – Девушка в длинном белом платье стояла босиком на белой шкуре полярного медведя, но под той лежал восточный ковер с вытканным ярко-синим узором.
– Моя «Белая девушка». Ее отвергли и Салон, и Лондонская академия. Ее зовут Джо Хиффернэн, – ответил Уистлер. – Ирландская ведьма, а кожа – что молоко. Для женщины очень смышленая, а душа глубокая, как колодец.
– Ох, бедный Джемми, – произнес Мане. – Неужто обязательно влюбляться в каждую женщину, которую пишешь?
– Ничего подобного. Девка меня отравила, и вот, пожалуйста, доказательство. – Уистлер обмахнул свою работу широким жестом. – Должно быть, холст я отскребал сотни раз – и начинал сызнова. А все эти свинцовые белила впитываются прямо в кожу. Я до сих пор вижу ореолы вокруг всех точек света. Врач мой говорит, что зрение вернется в норму лишь через несколько месяцев. Я был в Биаррице, у моря, поправлялся.
Тогда все понятно – свинцовое отравление. Мане перевел дух.
– А хромаешь? Тоже от свинца?
– Нет, на прошлой неделе писал на пляже, и меня смыло случайной волной, потом в прибое помотало. Утонул бы, если б не какой-то рыбак.
Меж ними, как миниатюрный ураган, проскользила дама. Хвостом за нею неслись черные кружева.
– Значит, надо было в Лондоне сидеть да пялить рыжую на медвежьей шкуре, не? – произнесла она по-английски с ирландским акцентом.
Все остатки румянца схлынули с лица Уистлера.
– Прошу прощенья, мадемуазель…
– Медвежья шкура стократ лучше речного берега, э, Эдуар? – сказала она Мане по-французски и пожала ему предплечье. – Она его, по крайней мере, сифилисом не наградила, non?
Мане почувствовал, как у него зашевелились губы, но никаких слов не раздалось. Художники, оба – небезызвестные острословы, – смотрели друг на друга, онемев.
– Да вы будто призрака увидали. Ой, вон опять дядюшка. Пора бежать. Па-ка!
И она поспешила через толпу. Монокль Уистлера выпал из глаза и закачался на конце шелкового шнурка.
– Кто была эта женщина?
– Откуда мне знать? – ответил Мане. – Ты с ней разве не знаком?
– Нет. Никогда не видел прежде.
– Я тоже, –