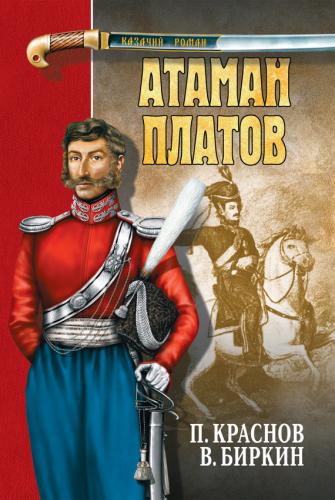– Какую балетчицу? – в изумлении спросил Коньков.
– Какую? Про которую Рогов рассказывал, что опутала вас.
– Так он называл ее балетчицей?
– Ну да. Я почем знаю, кто она такая! На сердце у Конькова стало полегче.
– Глупая сплетня, и больше ничего, – сказал Коньков и вспыхнул весь.
– Дай Бог! Я вам больше верю, чем Рогову Если вы больны, не беда это – пройдет, так просто соскучились по Дону Тихому, тоже не беда. Только бы не любовь! Однако надо посмотреть, что делается у них.
– Позвольте мне с партией поехать.
– Эх вы! Ну, «езжайте» с Богом!
Выбрал Коньков себе казаков, вскочил на Ахмета и поехал за ту границу, где кончалась жизнь и начиналась смерть, где стоял страшный, неведомый «он».
И все казаки чувствовали этот рубеж, все понимали, что вон за той межой, на которой так пышно разросся ивовый куст, начинается что-то новое, неведомое и страшное.
И хотя вчера еще они были там, но сегодня уже здесь не то.
Словно край мира прошел по меже. Один Коньков забыл про войну. У него на душе словно трубили праздник, ему весело было и радостно.
Говорили про балетчицу, а не про Ольгу Клингель?! Ах ты, душа моя, красна девица, – и я подумал на тебя… Это мне Господь послал утешение за мою жаркую молитву вчера… И беспечно и весело шел он на своем Ахмете вперед, забыв, где он и что перед ним.
– Que vive?[42] – раздался испуганный голос впереди, и вслед за тем щелкнул выстрел и с визгом и шорохом пролетела пуля.
Выскочил вперед фланговый урядник и положил ударом сабли в голову французского часового. Но дальше ехать было немыслимо.
Последние французские посты быстро снимались; авангардный эскадрон выезжал из Новогрудка, и по легкому, теплому ветерку доносилась польская речь и топот коней.
Желтые пятна на синем общем фоне, флюгера пик указывали, что это была польская конница графа Турно.
Коньков вернулся к Зазерскову и рассказал о случившемся. Послали донесение к Платову.
– Так выезжают? – Коньков кивнул головой.
– Ну, с Богом! По коням! – и новая нотка, суровая какая-то, властная зазвучала в голосе Зазерскова.
Казаки разбирались по лошадям и влезали на них, пока другие еще подтягивали подпруги и готовились к походу.
И у них на лицах тоже есть особенный отпечаток какой-то суровости и необыкновенного внимания к мелочам. Пастухов, никогда не чистивший гнедого своего маштака, вдруг заметил пятнышко на его ноге и усердно оттирал его рукавом. Акимов пробовал скошовку[43] с таким видом, как будто от нее зависел успех боя.
– Готовы? – раздался голос Зазерскова.
– Готовы, готовы! Акимов, поживей!
– Зараз сяду! – послышались голоса.
– Ну, слушай же, братцы! В круг!
Тесно окружили казаки своего командира; задние