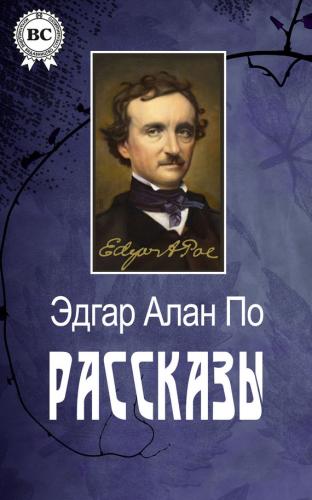Больше ничего не требовалось. Мы обменялись карточками. На другое утро я отстрелил ему нос, а затем отправился к своим друзьям.
– Bete [7]! – сказал первый.
– Дурак! – сказал второй.
– Олух! – сказал третий.
– Осел! – сказал четвертый.
– Простофиля! – сказал пятый.
– Болван! – сказал шестой.
– Убирайся! – сказал седьмой. Я огорчился и пошел к отцу.
– Отец, – сказал я, – какая цель моего существования?
– Сын мой, – отвечал он, – изучение носологии, как и раньше; но, попав электору в нос, ты промахнулся. Конечно, у тебя прекрасный нос, но у Блудденнуффа теперь совсем нет носа. Ты провалился, а он стал героем дня. Бесспорно, знаменитость льва пропорциональна длине его носа, но, Бог мой! возможно ли соперничать с львом совершенно безносым?
Тень
Вы, читатель, еще живы, а я, пишущий, давно уже удалился в царство теней.
Год этот был годом ужасов и годом, полным чувств, более сильных, чем чувство страха; для них нет названия на языке человеческом. Много совершилось чудес и предзнаменований, как на земле, так и на небе; черные крылья чумы раскрылись широко над землею. Астрономы говорили, что в звездном мире читают земное несчастие. Звездный мир имеет влияние не только на физическую жизнь земли, но и на души на ней живущих.
Раз ночью, в темном городе, по названию Птолемей, сидели мы всемером во дворце за несколькими бутылками красного киосского вина. В нашу комнату вела только одна высокая чугунная дверь. Дверь была вылита Кориносом, была образцом искусства и запиралась изнутри. Черные драпировки, повешенные в печальной комнате, закрывали от нас и луну, и зловещие звезды, и опустелые улицы; но мысли и воспоминание о заразе не могли быть так легко изгнаны. Вокруг нас и подле нас были вещи, отчет о которых я не могу отдать точно, – вещи, материальные и духовные, – какая-то тяжесть в воздухе, чувство задыхающегося человека, страх и, кроме того, ужасная жизнь нервных людей, когда чувствительность страшно раздражена, а умственные способности тупы и спят. Нас давила смертельная тяжесть. Она распространялась на наши члены, на мебель комнаты, на рюмки, из которых мы пили; и всё, казалось, было подавлено и охвачено унынием, всё, за исключением света семи ламп, освещавших наше пиршество. Свет тянулся длинными языками, бледными и неподвижными. А круглый стол из черного дерева, за которым мы сидели, лампы освещали так ярко, что он блестел, как зеркало, и мы все видели в нем отражение наших бледных лиц и беспокойный блеск наших мрачных глаз. И при всем том мы хохотали и веселились по-своему – истерически; и пели песни Анакреона, и много пили, хотя красный цвет вина напоминал нам кровь. В комнате было еще восьмое лицо – юный Зоил. Он лежал мертвый и вытянутый. Увы! он не разделял нашего пиршества, за исключением разве его лица, искаженного чумой, и глаз, в которых смерть не погасила еще огня чумы и которые принимали настолько участия в нашем веселье, насколько могут принимать участие покойники в веселье людей, которые должны умереть. И хотя я, Оинос, чувствовал, что взоры покойника устремлены на меня, но я старался не понимать