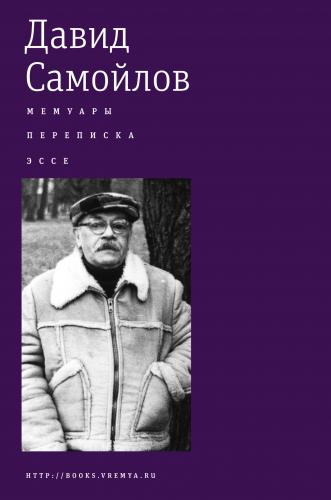Для Самойлова мир без луны (отождествляемой с поэзией и высшей правдой) – это мир тленный, фальшивый, мертвый. Скрыто, но внятно противопоставленный миру живому и необъятному, тому – подлунному – миру, где царствует Пушкин, доколь «жив будет хоть один пиит».
Суть поэзии в том, что подобно жизни она необъятна, неопределима и несводима к той или иной доктрине или тенденции. Гражданин (выхваченный причудой случая из Толпы), ощущая чуждость Поэта («Вот то-то вижу, будто не из наших»), готов дать ему тему («А ты ее возьми на карандашик») и ждет от него то ли поучения, то ли развлечения («А ты бы рассказал про что-нибудь» – вариация темы «А мы послушаем тебя»). В ответ он слышит сокровенную правду, превышающую личные волю и опыт его странного собеседника («Ты это видел? / Это был не я»). В стихотворении, озаглавленном именами персонажей-собеседников (1979), Ученик убежден, что «наука» Учителя «сильно устарела», и, алча определенности и самостоятельности, не слышит сострадательных предупреждений:
Природа мысли такова, мой друг,
Что доведи любую до конца –
И вдруг паленым волосом запахнет…
Похожий на Алеко «ночной гость» в кульминационной точке одноименного стихотворения (1972) оспаривает глубокие, выстраданные и, что всего существеннее, вроде бы «пушкинские» (то есть им же «заповеданные») суждения хозяина о человеческом достоинстве, невозможности спорить со временем и возврате к истокам, ставит под сомнение те ценности, что были особенно дороги Самойлову (и не ему одному):
Не напрасно ли мы возносим
Силу песен, мудрость ремесел
Старых празднеств брагу и сыть?
Я не ведаю, как нам быть.
Как и его ночной гость (все же не до конца равный Пушкину, ибо подлинный Пушкин так же неопределим и неуловим, как сама поэзия), Самойлов «не ведает, как нам быть» – то есть осознает ограниченность и опасность «универсальных» ответов, которые в иных случаях могут быть действительно спасительными, а в других – губительными. Истинная свобода больше того, что каждый из нас может вложить в это слово. Даже поэт, произносящий в ночном уединении заветное: «Наконец я познал свободу».
Дело не только в том, что история (и не одного лишь ХХ века) свирепа, а человеку всегда трудно дается его звание, которое Жуковский назвал «святейшим». Дело в том, что всякое бытие – греховодника и праведника, баловня судьбы и мученика, домоседа и скитальца, подвижника и бездельника, героя и проходимца, пахаря и властителя, учителя и ученика, гражданина и поэта – конечно. Жизнь может быть праздничной и страшной, счастливой и безотрадной, короткой и долгой, но рано или поздно наступает смерть. Некогда вкусивший всех земных благ, достигший небывалой высоты, а затем с нее низвергнутый Меншиков (драматическая поэма «Сухое пламя», 1963) пытается вытеснить страх смерти предположением о будущей людской неблагодарности, возможном забвении его великих государственных заслуг. Одряхлевший, давно растративший себя, никому не нужный Дон Жуан куражится над злорадным посланцем