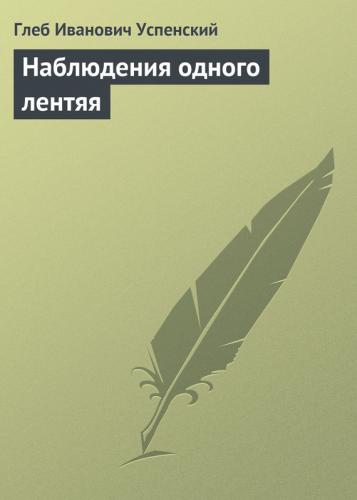– Умен, должно быть, батюшка был?
– Умный, умный был, говорить нечего! «Нет, говорит, не могу».
– Какой умный!..
– Да-а! «Нет, говорит, нельзя, не могу. Мне самому за это может быть дурно».
– Очень плохо! – вставляет отец: – как. же? Бедовое дело!
– Бедовое, бедовое, друг! «Нет, говорит, не могу». Просил, просил его чиновник-то, ничего не выпросил, так и ушел ни с чем. Что тут делать?
– Ну-ко?
– Совсем хоть топись – так пришло. И вправду ты давеча говорил, именно бы ему утопиться; да, счастлив бог, попался ему какой-то добрый человек, монах, шел он из Иерусалима. Разузнал это дело. «Я, говорит, вам могу оказать пособие». Потребовал он, милые мои, мочалку чистую, расчистую…
– Чистую? – трунит отец.
– То есть вот самую что ни на есть! Потребовал он эту мочалку, налил святой воды, помолился и всю эту клятву и спорхнул с маху с одного. «Тут-то, рассказывают, мы дрожали, господи!» Того и гляди гром расшибет; а как отмыл монах-то – ну уж тут…
– Ах, черти, черти! – бормочет отец.
– Прачку эту он сейчас вон, прочь! «Иди с глаз долой!»
– А она-то?
– Да и она-то рада развязаться. Ушла, рада-радехонька… «Ну, мол, тебя и с любовью с твоею!» Так вот она какая любовь-то! Насилу-насилу кой-какое худенькое местишко выпросил. Вот как!
– Ах, поганые!
– Ведь она – солдатка, – робко вставляет матушка.
– Так что же?
– Ну а он – чиновник.
– Ну?
Отец так произносит это «ну», что матушка совсем сконфузилась.
– Вот и все. Что «ну»? – тихонько произносит она.
– Что ж что солдатка?
– Действительно, что ему может быть обидно, – желая поправить матушкину оплошность, вставляет рассказчица-гостья.
– Вам, я вижу, все обидно. Вчера вот о боге заговорил – обида, про любовное дело – тоже. Шут вас знает, зачем вы только живете на свете? Я не вас, не вас… Что вы? Я про этих, про ваших жителей. Ни бога ему, ничего не надо.
– Нет! – слышу я вечером, лежа в постели: – на Дон уйду! Уйду я отсюда… Монах его спас! От любви!.. Выели душу из вас, выели… Нету ее!
– Спи, спи, христа ради! – уговаривает матушка.
– Уй-ду! Уйду, то есть вот только до весны!
III
В планах на это бегство к Дону прошла одна весна, другая и третья.
На Дон отец не ушел и на четвертую весну умер. Мне было тогда семь лет. И хотя я не мог вполне понимать отцовскую брань, хотя эту брань, получившую более определенное направление в городе, я слушал не более трех лет, тем не менее она сложила мою будущность навсегда. Мне предстояло жить по смерти отца в том же неприятном ему городе и пришлось бы непременно попасть в то или другое стойло, стать в ряд той или другой