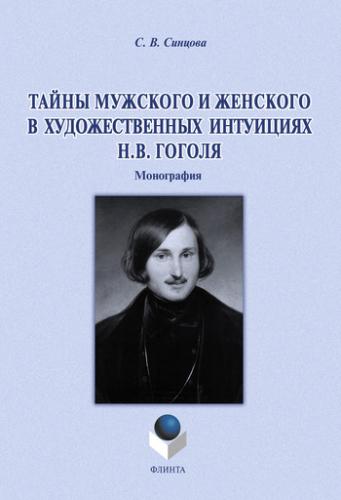Такое проективно-возможное выражение позволило Гоголю не только наиболее адекватно запечатлеть сущность ускользающе-изменчивого представления о гендере, но и сохранить в процессе его выстраивания чрезвычайно гибкие, изменчивые связи, почти лишенные отчетливой структурированности, определенности.
Чтобы описать этот тип связей, придется прибегнуть к научному аппарату эстетики, поскольку в литературоведении пока нет соответствующих разработок.
Те способы выстраивания драматического действия, что были эмпирическим путем обнаружены и описаны в «Женитьбе», при первом приближении были определены в литературоведческой терминологии как «мотивы» (зеркала, приданого, маски, карт и т. п.). Возникновение таких мотивов имело явный оттенок случайности: они как бы вспыхивали в действии пьесы то в одном, то в другом месте, придавая событиям, поступкам и причинам поведения персонажей некую весьма неустойчивую «целостность», относительную смысловую связь. Все оттенки и нюансы таких смыслов, появляющиеся в зоне влияния подобного мотива, собирались им и зависели от него. При этом действие одних мотивов было длительным (зеркало, маска, карты), других кратким (приданое, плевки), а иных и совсем сиюминутным, мимолетным (купец, арендовавший огород, например). Зоны влияния мотивов могли перекрещиваться или даже накладываться друг на друга.
Для описания подобного типа связей Ж. Делезом и Ф. Гваттари было предложено такое понятие, как «ризома». Они предложили данный термин для описания случайных сращений-симбиозов, которые может образовывать постмодернистская культура. Термин, явно содержащий образный потенциал (переводится как «корневище»), обозначает некие разрастания связей хаотического типа, «прорастающие» из не совсем четко выраженного центра, способного смещаться (любая из «точек» может стать таким центром) (92).
Представляется, что такого типа связи, отрефлексированные эстетическим и культурологическим сознанием в постмодернистскую эпоху, могли de facto существовать и ранее в культуре. В данном случае необходимо напомнить об исследованиях,