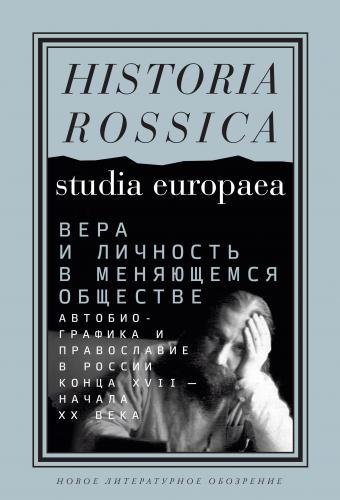С течением времени такой прямой детерминизм преступления и наказания в религиозной автобиографике отступает на задний план и уходит «в народ», а на смену ей приходит метафорика любви и прощения. В историях об отпадении-обращении фигурирует прежде всего притча о блудном сыне, как у цитированного выше А. Орлова или, например, в автобиографии о. Александра Воскресенского (1778–1825): «Если бы не братья, то пылкие страсти мои и необузданная воля увлекли бы меня, подобно блудному сыну, на страну далече»[129].
Особенное значение имеют деяния и послания апостольские, которые воспринимаются как первые жития. За чтением апостольских посланий происходит обращение Блаженного Августина; в центре нарратива обращения история отпадения апостола Петра и перемены Савла в Павла[130]. Референтным остается прежде всего житие своего святого или святых, с которыми авторы ощущают духовную связь: в «Диарии» св. Димитрия Ростовского, например, это св. великомученица Варвара, которая является в сонных бдениях. Изложенное в Четьях-Минеях житие св. Варвары стало, в свою очередь, руководством для жизни бежавшей в монастырь Варвары Соковниной, которая также совершает паломничество в Ростов к мощам св. Димитрия[131]. Сидящий в крепости в ожидании смертной казни и читающий те же Четьи-Минеи А. Н. Радищев просит написать ему икону св. Филарета Милостивого и пишет его житие как иносказание о собственной жизни «детям моим на пользу»[132]. Тогда как виновница его мучений Екатерина II тоже делает выписки из житий, в том числе св. Сергия Радонежского – но не для личного назидания, а для создания гражданского пантеона[133].
С течением времени основой для imitatio libri становятся и пришлые образцы. Так, один из бестселлеров XVIII и XIX веков в России, духовная автобиография Робинзона Крузо Дефо (The Life and adventures), дает название автобиографии Андрея Тимофеевича Болотова[134].
Главный вектор новой религиозности обращен к «внутреннему человеку». Это понятие восходит к «Павлову учению» и тому же Блаженному Августину. Для «внутреннего просвещения» первоначально не нужно никаких посредников, кроме личной молитвы, которая «ни устен требует, ни книги»[135]. К чтению еще подходят с опаской: среди вопросов, которые Павел Васильевич Головин предлагает в качестве каждодневного «вопрошания себя» своим сыновьям, есть «Что чаще всего читал и какой вред сие чтение могло причинить?»[136] Характерен так называемый «дневник книголюба» из Екатеринбурга, соборного протоиерея Феодора Карпинского конца