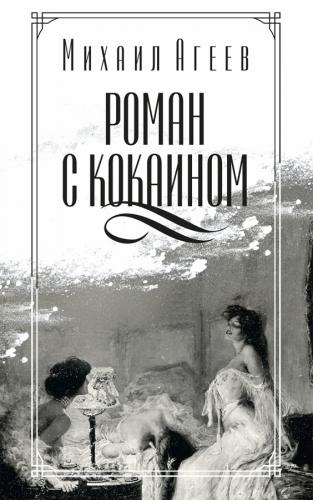И только, когда уже стоя в воротах, Зиночка, чтобы не потерять, заботливо запрятала клочок бумажки, на котором я записал будто бы свое имя и первый взбредший мне номер телефона, – только, когда попрощавшись и поблагодарив меня, Зиночка стала от меня уходить, – да, только тогда внутренний голос, – но не тот самоуверенный и нахальный, которым я в своих воображениях, лежа на диване, мысленно обращался ко внешнему миру, – а спокойный и незлобивый, который беседовал и обращался только ко мне самому, – заговорил во мне. – Эх, ты, – горько говорил этот голос, – погубил девчонку. Вон смотри, вон она идет, этот малыш. А помнишь, как она говорила – ах, ты моя любонька? И за что погубил? Что она тебе сделала? Эх ты!
Удивительная это вещь – удаляющаяся спина несправедливо обиженного и навсегда уходящего человека. Есть в ней какое-то бессилие человеческое, какая-то жалкая слабость, которая просит себя пожалеть, которая зовет, которая тянет за собою. Есть в спине удаляющегося человека что-то такое, что напоминает о несправедливостях и обидах, о которых нужно еще рассказать и еще раз проститься, и сделать это нужно скорее, сейчас, потому что уходит человек навсегда, и оставит по себе много боли, которая долго еще будет мучить, и может быть в старости не позволит ночами заснуть. Снова шел снег, но уже сухой и холодный, ветер мотал фонарь, и на бульваре тени от деревьев дружно виляли, как хвосты. Зиночка давно уже зашла за угол, Зиночки давно уже не было видно, но все снова и снова воображением я возвращал ее к себе, отпускал до угла, смотрел на ее удаляющуюся спину, и опять, почему-то спиной, она прилетала ко мне обратно. А когда, наконец, случайно промахнув по карману, я звякнул в нем ее неиспользованными десятью серебряными пятачками, и тут же вспомнил ее губки и голосок ее, когда она сказала – долго я их собирала, говорят, они к счастью, – то это было, как хлыст по моему подлому сердцу, хлыст, который заставил меня бежать, бежать вслед за Зиночкой, бежать по глубокому снегу в той расслабленной слезливости, когда бежишь вослед двинувшемуся и последнему поезду, бежишь и знаешь, что догнать его не сумеешь.
В эту ночь я еще долго бродил по бульварам, в эту ночь я дал себе слово – на всю жизнь, на всю жизнь сохранить зиночкины серебряные пятачки. Зиночку же я так больше никогда и не встретил. Велика Москва и много в ней народу.
3
Водительскую головку нашего класса составляли Штейн, Егоров и, как мне тогда хотело казаться, – я сам.
Со Штейном я был дружен, с постоянным беспокойством чувствуя при этом, что, как только я перестану напрягать в себе эту дружбу к нему, так тотчас