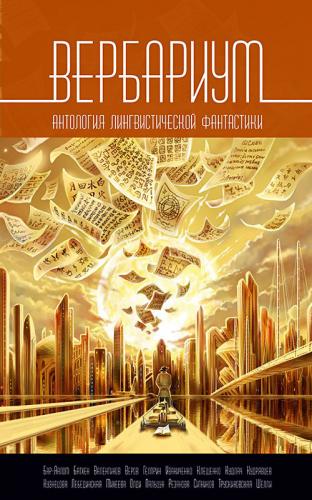Показывали резидента. Обильно жестикулируя, резидент обещал. Потом желал. Затем призывал. А я, ошарашенно глядя в кран, мучительно соображал, не стал ли он ниже остом и тише олосом.
Привычная резидентская олтовня, наконец, сменилась итрами древнего ильма «Весёлые ебята». С олчаса я переваривал старые несмешные охмы, затем выключил елевизор и поплёлся звонить Арине. Надо было ставить очки над «и» – наши тношения явно зашли в упик.
– Знаешь, Оля, – проникновенно сказала Арина, едва сняв рубку. – Не звони мне больше. Я не собираюсь терпеть твоих бесчисленных лядей и люх. Надоело!
Арина разъединилась. Я проковылял на ухню и там алпом махнул юмку одки. Закурил и принялся размышлять.
Насчёт люх она сильно неправа. Тем более – насчёт лядей. Ну, были, конечно, евочки, у кого их нет. Но вовсе не относящиеся к двум перечисленным атегориям. Хотя и не из тех, с которыми захочешь сочетаться законным раком. Наверное, Арине наклепали, что видели меня в жапанизе с рыжей Веткой. Обидно: с Веткой у меня как раз ничего и не было. Я внезапно разозлился.
– Знаешь, Оля, – дурашливым олосом передразнил я Арину. – Не звони мне бо…
Я осёкся. При чём здесь Оля? Ну да, меня так зовут. Уже двадцать шесть ет, как Оля, и что? Какого ёрта мне кажется, что в этом есть что-то совершенно неправильное? А то и унизительное.
Оскресенье я провёл в диночестве. Не заладилось с самого тра. Я бесцельно слонялся по вартире, механически отмечая, что отолки стали ниже, а омнаты – теснее.
Внезапно захотелось чего-нибудь для уши. Помаявшись немного, я решил почитать Ушкина.
– Мой ядя самых честных равил, – с едоумением произнёс я вслух. – Когда не в утку занемог.
Что-то опять было не то. Я не увидел мысла в троках, которые знал наизусть.
– Его ример другим аука, – с усиливающимся едоумением читал я. – Но оже мой, какая кука…
Я захлопнул Ушкина, мне показалось, что один из нас спятил, и я вовсе не был уверен, что этот «один» – великий тихотворец, а не я.
Неладное продолжалось весь ень. Я перестал узнавать и понимать знакомые ещи. Лова выглядели странно и не складывались во разы. Узыка звучала акафонией. «О е и а оль я и», – тупо твердил я, тщетно пытаясь извлечь хоть какой-то мысл из отной рамоты. Мысла не было. Мне показалось, что и самой рамоты тоже не было.
Ечером, когда я вовсю бесился от окружающих елепостей и есуразностей, позвонил Горь. Он уже еделю пытался выторговать у меня редкую негашёную ьетнамскую арку.
– Оля, – решительно сказал в рубку Горь. – Пятнадцать тысяч. И ни опейкой больше. Согласен?
– То есть как пятнадцать? – опешил я. – Озавчера ещё предлагал шестнадцать.
– У тебя с амятью как? – участливо осведомился Горь. – Озавчера было четырнадцать.
Это уже не укладывалось ни в какие амки.
– А пошёл бы ты в ад, Горь, – напутствовал я и, обнаружив в сказанном некую вусмысленность, уточнил: –