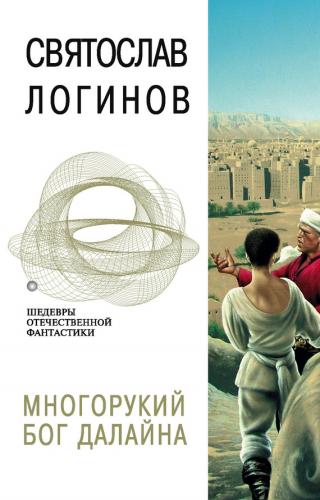В законе ничего не говорилось, как поступать в таком случае, поэтому хотя дерзкую не наказали, но и в покое не оставили. На работу со всеми женщинами Атай выходила, только если для неё не находилось особо тяжёлого и грязного труда. И, разумеется, никакого счастья она не получила; хоть никто не запрещал ей выходить замуж, но на всём оройхоне не нашлось желающего связать судьбу с женщиной, отмеченной клеймом бунтовщика. Атай ходила, высоко подняв голову, казалось, ей нет дела до любопытных и недоброжелательных взглядов, и Энжин был удивлен, узнав, что и её жизнь трёт шершавым по открытому сердцу.
В течение двух или трёх недель после мягмара, когда всё на оройхоне принималось плодоносить особенно бурно, хозяйство старейшин начинало лихорадить. Часть женщин отправлялась на мужские работы – на поля, а остальные, чтобы справиться с бешено растущим наысом, работали круглосуточно, получая лишь два небольших перерыва для еды и четыре часа на сон. Но даже во время перерывов женщины домой не возвращались. Это равно касалось и сборщиц, и привилегированных работниц, перебиравших грибы.
Сай две недели была на чистой работе сортировщицы, а вот Атай как неугодную вообще не допускали в алдан-шавар, на её долю досталось поле, и работать ей пришлось в паре с Энжином. Первый день они работали вровень: жали, вязали снопы. Когда урожай был снят, баргэд вручил Энжину верёвки и пустые мешки, а его напарнице – тяжеленное било: выколачивать из гроздьев зерна. Именно тогда, при взгляде на согнувшуюся под неподъёмным инструментом фигурку, Энжин понял, что так не должно быть. Не было сомнения, возмущения и гнева, не мучили мысли, что он нарушает закон, была лишь спокойная уверенность: так не должно быть. Энжин подошёл к Атай, взял у неё из рук цеп и начал молотить сам, хотя знал, что меняться работой запрещено: каждый несёт ту повинность, что определена ему по заслугам. И Атай – видно, крепко засели в ней семена бунта! – не возмутилась, а молча принялась подтаскивать снопы, вязать солому и относить в сторону полные мешки.
Красный вечер погас в небесном тумане, на суурь-тэсэге протрубили в витую раковину, возвещая конец работы, лишь тогда они молча, так и не сказав ни слова, поменялись инструментом, а сдав его баргэду, не расползлись, как обычно, по своим норам, а уселись возле тэсэга, прислонившись к его шероховатому боку.
– Атай, – спросил Энжин, – как сделать, чтобы они перестали тебя гнать?
– Никак… – тихо прозвучало из темноты.
– Но почему… – начал Энжин, но Атай перебила его, зашептала быстро и отчаянно то, что не раз, должно быть, говорила самой себе за эти три года:
– Я знаю, что нельзя было отказываться, но ведь всем известно, как именно сёстры непорочности прислуживают целомудренным старейшинам. Сначала они живут в роскоши, потом переходят к баргэдам и цэрэгам, услаждают их похоть,