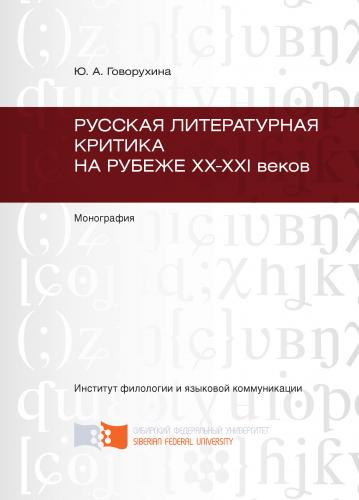Выявленные текстопорождающие установки, лежащие в области гносеологии литературной критики XIX века, окажутся жизнеспособными, будут определять теоретическую мысль ХХ века.
Символистская метакритика в контексте данной работы представляет интерес как опыт непозитивистского взгляда на сущность критической деятельности, а следовательно, как возможный исток генезиса литературной критики рубежа ХХ–ХХI веков. Связанная с эстетической, органической, реальной критикой13, модернистская метакритика явилась следствием кризиса старой позитивистской критической парадигмы, трансформации реализма, влияния западных философско-эстетических концепций, смены методологической парадигмы гуманитарных наук, увлечения мистикой.
Не имея большой читательской аудитории, развиваясь как элитарное (салонное) эстетическое явление, символистская критика, тем не менее, породила уникальную гносеологическую систему, позволявшую не только осваивать нереалистические тексты, но и осмысливать акт интерпретации как самопонимание и творчество одновременно.
Метакритика рубежа ХIХ–ХХ веков дает возможность реконструировать обновленную дискурсивную модель критической деятельности, в основе которой лежат принципиально антипозитивистские познавательные установки.
«Слепой зоной» для символистской критики и метакритики становится социальная действительность, которая в качестве доминирующего компонента интерпретационной деятельности ассоциировалась прежде всего с публицистической критикой.
«Активными» зонами становятся Автор и Критик, образуя своего рода напряжение в процессе интерпретации, предполагающем и постижение личности писателя, и обращение к собственному «Я». Качество зон свидетельствует об антропоцентричности, субъектности и субъективности символистской критики (в отличие от близкого ей эстетического направления), отражающихся во всех сегментах ее модели критической деятельности.
Автор в рассматриваемой модели занимает значимое место, оказываясь в большинстве случаев главным объектом интерпретации и смещая в этой позиции собственно художественный текст. Это обусловлено символистской концепцией творчества, максимально приближенного к истине, и художника, который мыслится как мессия.
Художественное творчество сакрализуется, мистифицируется символистами. Его тайны становятся важнее, чем сам текст, а способы постижения этой тайны образуют критический метод. Критик в символистской модели критической деятельности одновременно занимает положение творца и познающего тайны художественного творчества.
Для символистской критики типична установка на уход от статуса критика как априорно авторитетной инстанции, которую предполагала старая позитивистская модель. В то же время не менее актуальной является