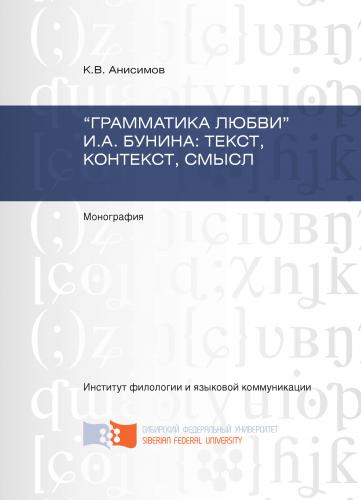Имя его я слышал с младенчества, узнал его не от учителя, не в школе: в той среде, из которой я вышел, тогда говорили о нем, повторяли его стихи постоянно. Говорили и у нас, – отец, мать, братья. <…> В необыкновенном обожании Пушкина прошла вся ее (матери. – К.А.) молодость, – ее и ее сверстниц. Они тайком переписывали в свои заветные тетрадки «Руслана и Людмилу», и она читала мне наизусть целые страницы оттуда, а ее самое звали Людмилой (Людмилой Александровной), и я смешивал ее <…> с Людмилой из Пушкина (VI. 621).
Позднее, 22 декабря 1928 г., Г. Кузнецова записала страстную эскападу писателя: «Разве кто-нибудь другой может так почувствовать? Вот это, наше, мое, родное, вот это, когда Александр Сергеевич <…> входит в сени <…> в свою комнату, распахивает окно <…> Но ведь этим надо жить, родиться в этом!»30 Цитированная тирада ярко контрастирует с отстраненной объективистской установкой В.Я. Брюсова в «Моём Пушкине»:
Нам трудно представить себе Пушкина как человека, как знакомого, с которым встречаешься, здороваешься, разговариваешь. <…> Между Пушкиным и нами поставлено слишком много увеличительных стекол – так много, что через них почти ничего не видно <…> Приходится чутьем, вдохновением выбирать из рассказов и показаний современников, что в них верно до глубины и что только внешне верно, – угадывать Пушкина31.
Очевидно, что для Бунина в той перспективе, которую он сам для себя наметил, «угадывать» Пушкина не было никакой нужды. Перед нами словно реплики заочного диалога: в «пушкинской» статье 1926 г. Бунин вновь вспомнил своего давнего противника Брюсова: «Вот я собираюсь на охоту – “и встречаю слугу, несущего мне утром чашку чаю, вопросами: утихла ли метель?”. Вот зимний вечер, вьюга – и разве “буря мглою небо кроет” звучит для меня так, как это звучало, например, для какого-нибудь Брюсова, росшего на Трубе в Москве?» (VI. 621–622). В глазах Бунина Брюсов, уроженец Цветного бульвара, живший «в доме своего отца, торговца пробками»32, от Пушкина был неизмеримо далек. Понимание канона в таком аспекте тяготело не просто к идее наследования, но к отчетливому династизму, который в свою очередь актуализировал в бунинском сознании образные и жанровые архетипы легитимного – нелегитимного.
Вместе с тем самоопределение Бунина в качестве преемника классиков подразумевало не только осуждение современников, близких тому писательскому типу, который в речи на юбилее «Русских ведомостей» был назван «духовным разночинцем» (VI. 611), но также исправление и приспособление «под себя» самих предшественников. Монопольное наследование неизбежно подразумевало и волевое «переписывание» классики33.
Наконец,