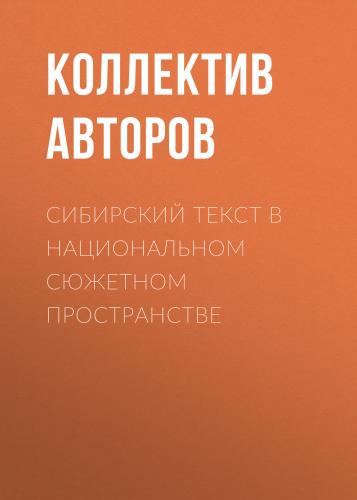Оба подчеркнуто дистанцировались от того, что в иерархии имперской службы было как выше, так и ниже их собственного статуса. Так, Словцов часто жаловался на пороки светского общества, в особенности на карточные игры и «вольнодумство». Он внушал Калашникову, что человеку лучше держаться от них подальше, а начинать день следует с чтения Евангелия, нежели с обрызгивания себя одеколоном в духе тех самых «светских людей»91. В свою очередь, Калашников на первых порах гордился своим вхождением в сообщество русских писателей, однако быстро разочаровался. «Это уже не собрание умных и просвещенных людей – писал он Словцову в 1838 г. – но подлейший рынок торговцев»92. Словцов соглашался. После прочтения неблагожелательной для Калашникова рецензии Н.А. Полевого на роман «Камчадалка» Словцов адресовал своему другу утешительные слова: «Он показался мне несправедливым и колким, но чего ожидать от души мещанской (курсив наш. – М.С.)?»93. Один из первых вопросов, который он задал Калашникову по приезде последнего в Петербург в 1823 г., заключался в том, насколько государственные службы столицы изобилуют «людьми просвещенными, по крайне мере учившимися в высших учебных, или по полам с подьячими»94. Позднее, раздраженный промедлением в получении нужной ему копии архивного документа из Санкт-Петербурга, Словцов писал своему корреспонденту: «Дайте подъячему за переписку 50 и даже 100 р. Пусть он и пьется и напьется!»95
Поскольку просвещение должно было, как полагали Калашников и Словцов, распространяться из столиц в Сибирь, сибирская идентичность не могла возобладать в структуре их личности над ощущением себя в качестве слуг империи. Так, Калашников отметил, что в обеспечении просвещенными чиновниками Сибирь полагалась на Россию, ибо в самой Сибири «туземные служаки все оставались, большею частию, в загоне, по известному изречению: несть пророк во отечествии своем». Именно по этой причине, добавляет Калашников, наиболее одаренные чиновники – как он сам – были вынуждены искать счастья «на чужбине»96. В ранней редакции «Записок иркутского жителя» он снова подчеркнул свое отличие от непросвещенных сибиряков. Здесь уровень образованности иркутян показан в рассказе о Санге, обезьянке, содержавшейся на поводке во дворе генерал-губернаторского дома. Иркутяне, пишет Калашников, смотрели на этого «дивного зверя» с ужасом и судачили, что он может, сорвавшись со своей цепи, начать звонить в колокола Спасской башни и даже ворваться в их собственные жилища. Мемуарист сравнивает этот беспричинный страх с беззаботным отношением этих же иркутян к Мишке – громадному медведю, сидевшему на цепи в мясном ряду. Мишку не боялся никто несмотря на то, что все знали: «не редко» он раздирал в клочья дразнивших его. «Медведь был, видите, тоже Сибиряк, так его бояться было не для чего? Другое было ужасная санга (курсив И.Т. Калашникова. – М.С.)!»97 И это на том основании, что обезьяну никто раньше никогда не видел