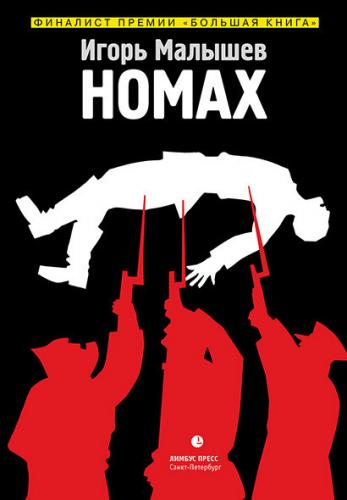– Ай, ты хороший! – восхищённо произнёс Нестор, разглядывая его. – Слов нет! Каких же ты, красивый такой, песен нам напоёшь, когда вырастешь? Таких, поди, что склоны логов стонать будут? А? Таких, что бабы в коленках прослабнут и любить будут, злобно, будто волчицы? И дети, что под твои песни зачнутся, не иначе как сразу с лезвием в кулаке рождаться будут. Так, что ли, соловейко?
Тот сидел на самом конце шашки и гордо обозревал поле боя, словно во всём, что он видел перед собой, была и его заслуга.
– Ах, хорош! – любовался батька.
Соловьёнок всплеснул крыльями и замер, раскинувшись, будто крохотный, гордый бог войны.
Номах подсадил его на ветку дуба. Подцепил шашкой, пристроил рядом в развилке сбитое гнездо.
– Вот и дом твой на месте, – сказал Нестор, убирая шашку в ножны.
Лезвие, всё в бурых разводах и с присохшими комочками, шло неохотно.
– Надо было сразу о траву отереть, – сказал себе.
Развернул коня, дал шпор.
– Щусь, Каретников! Видел кто Каретникова? – крикнул.
И понёсся к переполненным санитарным повозкам.
Бинты раненых белели, словно свежевыпавший снег.
Вишня цветёт
Вечерело.
В просторной, как сельский выгон, зале трёхэтажного дворца князей Остроградских люстра отбрасывала на потолок причудливую, похожую на паука, тень, и казалось, будто это он ткёт тот мягкий полумрак, что заполонил всё вокруг.
Темнота скрывала углы мебели, покрывала чернью серебро зеркал, дышала в уши теплом и тишиной. Узоры лепнины на потолке и стенах превратились в таинственные письмена. Тяжёлые шторы застыли потоками чёрного камня, люди на портретах глядели призраками, кресла походили на сидящих на полу вурдалаков.
Номах тронул гармошку. Тонкий, похожий на щенячий скулёж звук пронёсся по зале.
Ты меня не любишь,
Ты моё сердечко…
– пропел Нестор.
Мелодия, улетевшей по ветру косынкой пересекла залу и смолкла, поглощённая без остатка шторами, креслами и портретами.
В тёмный омут бросила
Ты моё колечко.
Номах чуть нажал голосом, и эхо валом прокатилось по паркету, разбилось на осколки, зазвенело по углам.
Нестор замер, ожидая, пока утихнут отголоски.
Рывком, с силой растянул гармошку. Зала отозвалась сотней звуков и призвуков.
Вот тебе на шею
Камень в полсажени.
Сыщешь на дне речки
Ты моё колечко.
– пропел он громким надтреснутым голосом и тёмные стены рявкнули хором самых неожиданных звуков: высоких, низких, дребезжащих, как скрипичная струна под плохим смычком, гулких, будто исходящих из погреба, чистых, словно хрустальные подвески на люстре.
Скрипнула, открываясь, высокая белая дверь.
Вошёл Щусь. В сумраке светились шнуры, которыми был расшит его австрийский мундир.
– Батька, ты здесь-нет? – вгляделся