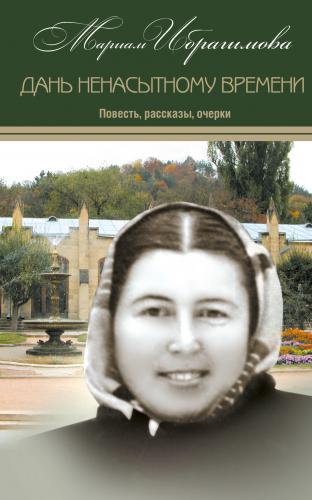Ты враг народа!
Это тебе за мои муки!»
В кабинет влетели конвоиры и надзиратели и ударили меня чем-то тяжёлым по голове.
Я потерял сознание. С трудом пришел в себя – после того, как меня окатили ведром воды.
Наверняка у меня был такой вид, что как только меня втолкнули в камеру, все кинулись ко мне и самым заботливым образом стали врачевать примочками, повязками из полотенец и прочими примитивно доступными средствами.
Нет, я нисколько не сожалел о содеянном.
Слово мать для меня, как для всякого горца, было священным.
Матерную брань, обращённую к кому бы то ни было, я просто не выносил.
И не приведи господь, если кто-либо из дружков или неприятелей решился бы обложить меня подобной бранью.
Да, мать свою я страстно любил.
Её слово для меня было законом, её воля непоколебима.
Когда умер отец, нас осталось у неё трое.
Безграмотная горянка, она от природы была одарена светлым умом, была неустанно трудолюбива.
Её мудрый, искрящийся теплом и лёгкой грустью взгляд я обожал. В нём хватало и мужества чтобы заменить нам отца.
Благодаря матери я уверовал в силу женщин-горянок, которые могли опоясаться мужским ремнём, надеть папаху и сражаться с врагом наравне с мужчинами.
У меня были обожаемая жена, любимые дети и если признаться откровенно, оказавшись под арестом я страшно тосковал по матери.
А может быть, это потому, что ее безутешная, отчаянная тоска передавалась мне необъяснимой силой телепатии.
Она боготворила меня, но свои чувства, порожденные неизгладимой силой материнского инстинкта, старалась скрыть за внешней строгостью и напускаемой спокойной рассудительностью.
Я знал, что в потемках бессонных мучительных ночей она скрывает от всех свои страдания по мне, потому что не сомневается в моей невиновности, ибо только ей я доверял самое сокровенное.
Когда ночью щёлкнул замок, заскрипел засов – несмотря на ночь, каждый из заключённых приподнял голову: кого «на выход»?
Я поднялся, глянул на лежащих рядом, прочёл в их глазах сочувствие и, улыбнувшись, кивнул головой. В сопровождении конвоира, держа руки за спиной, как и положено, я направился по длинному коридору к знакомой двери. Несмотря на сильное волнение и стеснение в груди, вошел я в кабинет следователя твердым шагом и гордо, вызывающе откинув голову, стал перед столом.
Но тот, кого я увидел, в какое-то мгновение привел меня в такое состояние раскованности и растерянности, что я, чувствуя, как лезут глаза из орбит, с трудом шевеля языком, прошептал:
– Саша, ты?
Александр Смирнов встретил меня более спокойно. Вспомнил меня. Я понял, что встреча для него не была неожиданностью.
– Да, Гирей, это я, здравствуй, – он пожал мне руку и, указав на стул, добавил, – садись.
Опять-таки, не забывая, кто я есть в данном положении, я опустился на сидение и, наклонив голову, стал ждать официального разговора.
Но