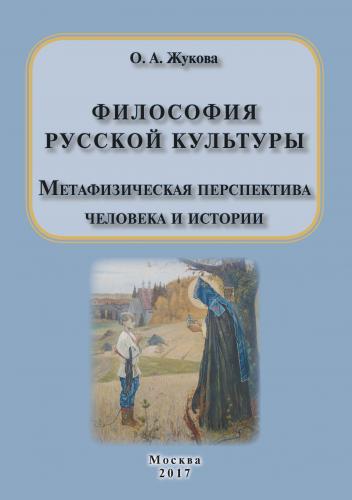С какой-нибудь развратницей лукавой
Иль дурой, им обманутой, так я
Весь день минуты ждал, когда сойду
В подвал мой тайный, к верным сундукам…[113]
Барон отождествляет мощь денег с могуществом личности, ставя себя за грань добра и зла, как достигший «совершенного»:
Мне все послушно, я же – ничему;
Я выше всех желаний; я спокоен;
Я знаю мощь мою: с меня довольно
Сего сознанья…[114]
Богатство бесстыдно повествует о том, как оно притекает в сундуки, минуя все человеческие нравственные установления. Для усиления воздействия Пушкин прибегает к образу несчастной вдовы с детьми, оказавшейся в должниках у скупого чудовища:
Тут есть дублон старинный…вот он. Нынче
Вдова мне отдала его, но прежде
С тремя детьми полдня перед окном
Она стояла на коленях воя[115].
Нравственное чувство, растоптанное, вычеркнутое бароном, – это убитая им в себе совесть. Совесть же – живая связь человека с Богом, нравственный закон, оказавшийся нарушенным в результате грехопадения, но сохранившийся в виде врожденного нравственного чувства, человеческой способности осознавать свой грех в стремлении избавиться от его разрушительных действий в себе. Совесть же есть начало восхождения человека к Богу, условие его духовно справедливого и нравственного общежития с другими. Именно совесть с корнем выдрана бароном для удовлетворения своей страсти. Совесть мертва – страсть торжествует:
…Иль скажет сын,
Что сердце у меня обросло мохом,
Что я не знал желаний, что меня
И совесть никогда не грызла, совесть,
Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть,
Незваный гость, докучный собеседник,
Заимодавец грубый, эта ведьма,
От коей меркнет месяц и могилы
Смущаются и мертвых высылают?..
Нет, выстрадай сперва себе богатство…[116]
Восклицание герцога: «Ужасный век, ужасные сердца!», завершающее «Скупого рыцаря», обращено не только к веку поэта. Слово обличения стяжательства, скупости, жадности борется за душу нашего современника, поскольку душа, освободившаяся от плена сребролюбия, достигшая полноты бесстрастия в отношении любых предметов идеальных, или материальных – подлинно свободна. Об этом говорит духовный опыт христианства. Слово о гневливой душе. В святоотеческой традиции отношение к гневу двойственно. Гнев как страсть является тяжелым грехом, повреждающим душу и искажающим образ Божий в человеке. Гнев как выражение справедливого негодования в борьбе за истину, как душевно-эмоциональная мобилизация человека против своих собственных пороков и страстей допу скается. Об этом читаем у Евагрия монаха (Понтийского): «Гнев по природе назначен на то, чтобы воевать с демонами и бороться со всякою греховною сластию. Потому Ангелы, возбуждая в нас духовную сласть и давая вкусить блаженства ее, склоняют