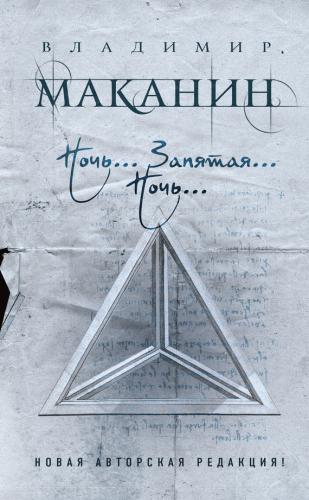Как вдруг я получил от Леры письмо, совсем краткое и показавшееся мне грубоватым. Лера писала, что наконец-то она «живет настоящей жизнью». И что я был совершенно прав, стократ прав, когда говорил ей о том, что мы слюнтяи и что живем жизнью наперед запрограммированных, жалких специалистов, в то время как настоящая жизнь с запахами, звуками, красками проходит от нас вдали.
На том письмо и заканчивалось, как бы обрывалось, но в конце была еще более краткая приписка, которая меня больно ударила: я и влюбилась тут тоже по-настоящему! – приписала Лера, поставив восклицательный знак очень ясно и четко.
В тот же вечер я помчался на наш небольшой вокзал и отправился в Новостройный. По расстоянию да и по карте (поскольку ехать с Урала на Урал) было туда не слишком далеко, но, поскольку ехать в Зауралье приходилось местным поездом, с пересадкой и с дополнительным ожиданием, связанным с четными и нечетными днями, это оказалось вовсе не близко. Я добирался почти вдвое больше, чем до далекой Москвы.
Сердце мое ныло; я старался как-то отвлечься, не думать, через ноющую боль занимал себя (и словно бы уже утешал) мыслью о приобщенности; так или не так, но теперь я тоже, как и Лера, буду там и буду приобщен к тем людям, к той их страдальческой жизни. Старый вагон тяжело клацал, затем он так неохотно скрежетал при разгоне, а разогнавшись – чугунно, пугающе гудел. Так и было: я спешил к Лере, а выбранный мной в герои Леша-маленький спешил догнать ушедшую через горы старательскую артель. Каждый в своем времени, мы оба спешили.
Уже в первый день в Новостройном я мог бы понять, что для Леры выбор в любви был определен и в какой-то мере подготовлен моими же горячечными разговорами. Тот, кого Лера выбрала, был шумный мужчина лет тридцати, недавно отсидевший в лагере, а сейчас работавший на поселении шофером. Уже в том письме Лера словно бы переступила, словно бы через самое себя. Буянистый молодой мужик, грубоватый и с обветренным, медным лицом, он был даже красив. Нам (для наших студенческих лет и воззрений) он казался человеком пожившим, взрослым и, несомненно, пострадавшим. Для всех прочих, живущих в поселке, он был попросту бывший зек Вася.
Мы его, конечно, звали Василием.
Лера лишь чуть смутилась, когда я приехал, – она не таилась, она вся была в новом своем увлечении и восхищенно описывала мне Василия и его жизнь; конечно, Василий не был репрессирован – но все равно он был несколько лет в лагере, страдал – верно?.. Лера уверяла меня, что я пойму ее выбор, как только его увижу. Поклонение ее было самозабвенно, чувство – искренно, а с былым (с нашим былым) было покончено.
– А-а, это друг твой, – сказал Василий; он вылез из кабины и затопал к умывальнику мыть руки после того, как несколько часов крутил баранку.
И добавил (оттуда):
– Дружба – дело святое.
А мы, переминаясь с ноги на ногу, стояли возле его грузовика. И ведь точно! Я уже тоже смотрел на Василия ее глазами. Меня восхищали обветренное