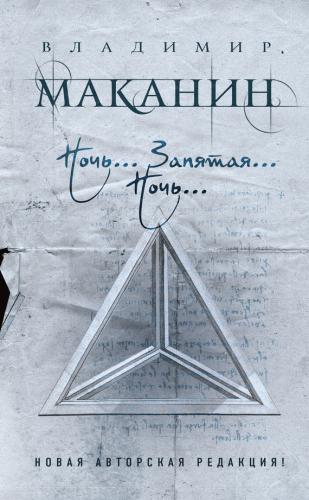– Ты только подумай, Лера, сколько лет воевать за революцию, отдать ей молодость, лучшие годы, отдать мысли и душу – и понести наказание ни за что! вот боль, вот страдание!
Лера молчала. Она не возражала, нет-нет. Но и не поддерживала.
Я провожал ее до метро, провожал иногда до самого их дома, а затем возвращался в общежитие. В комнате студенты вели поздние разговоры, но бывало, все трое уже спали. Из спортивного чемоданчика (тогда они были в моде, взамен портфелей) я выгружал в стол свои тетради, конспекты. А тетрадку с повестью, чтобы не попалась случайно на глаза, тихо запрятывал на свою полку в шкафу, в тот угол, где стопкой были сложены три мои майки.
Безымянка-гора – это, скорее, небольшое плоскогорье, долго и плоско подымающееся взгорье, которое я помнил с детства. Гора-змея, и Заяц-гора, и просто гора Камень, и еще была известная гора Глинка, бок ее бело-желт, и, после того как просыхал ливень, там без конца скребли и стесывали размягченную глину. Но из всех них только одна, тянущаяся и так долго подымающаяся гора, что и на гору не походила, осталась безымянной. И все же она была горой. И, если кто шел по ней наверх, уже через полчаса пути очень хорошо чувствовал и слышал ногами, спиной, что это не взгорье и не склон – гора.
И однажды отставший Леша-маленький вдруг обрадовался, увидев на горе поднимающуюся группку людей, артель. И заспешил.
Но людей там не было. Обман этой горы известен – гора была не просто полога, но еще и волниста, в такой степени ровно волниста, что сразу и легко она напоминала наклоненную бесконечную стиральную доску. Меж гребней этой волнистости росли кой-какие кусты, шевелящиеся острые их верхушки и создавали эффект идущих людей. Казалось, люди идут и идут, подымаясь по Безымянке. От покачиваний при шаге верхушки далеких кустов также чуть выглядывали и, выглянув, немедленно смещались вперед, двигались. Человек останавливался, не веря глазам. И картина сразу замирала: никого. Но тогда срабатывало марево. Волнистость горы, вероятно, гнала неровно прогретый ток воздуха – теплый воздух изгибался, гнулся на живых верхушках кустов, и вновь казалось, что там люди, артель.
Леша спешил, но и артель уходила, они шли один за другим. Он стал. Артель тоже стояла. Он кричал им: «Э-эээй! Э-ээй!..» – и никто из них головы не повернул. Стояли. Но едва он шагнул, артель тут же двинулась вперед.
Я так тщательно описывал состояние, в котором Леша-маленький спешит за почудившейся ему артелью, а групповой мираж то замирает, то движется вновь, я так сопереживал, что это чувство человека, который отстал и догоняет, вошло в меня неприметно и вошло, по-видимому, глубоко и значаще. (И гораздо прежде, чем я его в себе осознал. Чувство пришло загодя. Такое бывает.)
Он не понимал, что он стал нужен. Он не видел себя ни из своего прошлого, ни из нынешнего, а замечательным даром своим он, конечно,