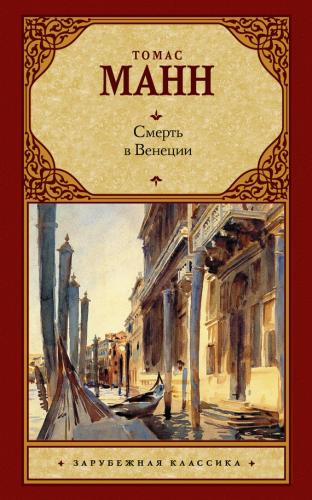– С каких пор у вас увечье, господин Фридеман? – спросила госпожа фон Ринлинген. – Вы таким родились?
Он сглотнул, потому что перехватило горло, а затем тихо, учтиво ответил:
– Нет, сударыня. Младенцем меня уронили на пол, поэтому.
– А сколько вам теперь лет? – спросила она еще.
– Тридцать, сударыня.
– Тридцать, – повторила она. – И вы не были счастливы эти тридцать лет?
Господин Фридеман несколько раз тряхнул головой, губы его дрожали.
– Нет, – сказал он. – Это я все лгал и воображал.
– Вы, стало быть, думали, будто счастливы? – спросила она.
– Пытался, – ответил он.
И она заметила:
– Отважно.
Прошла минута. Только стрекотали кузнечики и позади тихо-тихо шелестели деревья.
– Мне немного известно, что такое несчастье, – сказала она затем. – Такие летние ночи у воды прямо созданы для этого.
На что он не ответил, а слабо махнул рукой в сторону того берега, мирно лежавшего во тьме.
– Там я недавно сидел, – сказал он.
– Когда ушли от меня? – спросила она.
Он только кивнул.
Однако затем вдруг конвульсивно вскочил со скамейки, всхлипнул, испустил стон, жалобный стон, имевший в себе вместе с тем нечто высвобождающее, и медленно опустился перед ней на землю. Ладонью он коснулся руки, лежавшей рядом, на скамейке, и, держа ее, схватив и другую, содрогаясь и сотрясаясь, распростершись перед ней, прижав лицо к ее коленям, этот маленький, такой уродливый человек, задыхаясь, забормотал нечеловеческим голосом:
– Вы ведь знаете… Позволь мне… Я больше не могу… Боже мой… Боже мой…
Она не сопротивлялась, но и не наклонилась. Она сидела выпрямившись, слегка от него отстранившись, а маленькие, близко посаженные глаза, в которых словно отражалось влажное мерцание воды, неподвижно и напряженно смотрели прямо, выше, вдаль.
А затем вдруг рывком, с резким, горделивым, презрительным смешком она выдернула руки из горячих пальцев, ухватила его за локоть, отшвырнула на землю, поднялась и исчезла в аллее.
Он лежал, уткнувшись лицом в траву, оглушенный, растерянный, и дрожь то и дело пробегала по его телу. Затем с трудом встал, сделал два шага и снова упал. Он лежал у воды.
Что же происходило в нем после того, как это случилось? Может, вернулась та сладострастная ненависть, что он чувствовал, когда она унижала его взглядом, и что теперь, когда он валялся на земле, как побитая ею собака, переродилась в безумную ярость, которую необходимо утолить действием, пусть и направленным против себя… Может, отвращение к себе, наполнившее его жаждой уничтожить себя, разодрать себя в клочья, истребить…
Он немного прополз на животе, приподнял туловище и бросил его в воду. Он больше не двинул головой, не двинул даже ногами, оставшимися на берегу.
Когда плеснуло водой, кузнечики на мгновение умолкли. Теперь они вновь вступили, тихонько зашелестел