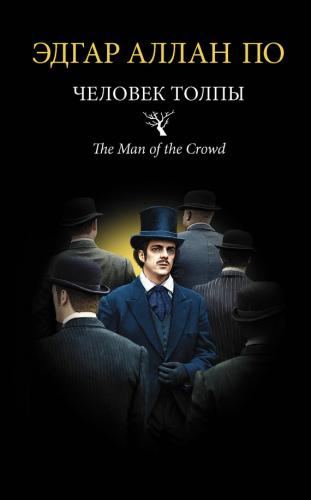Я говорю о философе, как о рестораторе. Но да не подумает кто-либо из моих друзей, что наш герой недостаточно ценил важность и достоинство профессиональных обязанностей, доставшихся ему по наследству. Вовсе нет. Трудно сказать, какой стороной своей деятельности он больше гордился. По его мнению, сила инстинкта имела теснейшую связь со способностями желудка. Я, право, не знаю, стал ли бы он спорить с китайцами, по мнению которых, душа помещается в животе. Во всяком случае, греки, по его мнению, были совершенно правы, обозначая одним и тем же именем душу и грудобрюшную преграду. Говоря это, я отнюдь не думаю намекнуть на его обжорство или какой-либо недостаток, предосудительный для метафизика. Если Пьер Бон-Бон имел свои слабости, – какой же великий человек не имел их тысячи? – если Пьер Бон-Бон имел свои слабости, то самые невинные, которые в другом человеке были бы, пожалуй, сочтены за добродетели. Об одной из этих слабостей я не стал бы даже упоминать, если бы она не была крайне выдающейся чертой в его характере. Он никогда не мог удержаться, если представлялся случай что-нибудь купить или продать.
Он не был корыстолюбив, нет. Для нашего философа вовсе не требовалось, чтобы сделка принесла ему выгоду. Лишь бы сделка состоялась – какого угодно рода, на каких угодно условиях, при каких угодно обстоятельствах, – и торжествующая улыбка в течение многих дней озаряла его лицо, а лукавое подмигивание свидетельствовало о его проницательности.
Такая странная особенность в любую эпоху возбудила бы внимание и толки. А если бы она осталась незамеченной в эпоху, к которой относится наш рассказ, так это было бы истинным чудом. Вскоре обратили внимание, что во всех подобных случаях улыбка Бон-Бона резко отличалась от добродушного смеха, которым он сопровождал собственные шутки или приветствовал знакомого. Пошли тревожные слухи; рассказывались истории опасных сделок, заключенных на скорую руку и оплаканных на досуге; приводились примеры необъяснимых побуждений, смутных желаний, противоестественных наклонностей, внушенных виновником всякого зла для каких-то своих собственных целей.
У нашего философа были и другие слабости, но вряд ли стоит разбирать их серьезно. Так, например, люди глубокого ума в большинстве случаев обнаруживают пристрастие к бутылке. Является ли это пристрастие причиной или доказательством глубины ума – вопрос тонкий. Бон-Бон, насколько мне известно, считал этот предмет недоступным детальному исследованию, – я с ним согласен. Но и отдавая дань этой истинно классической склонности, ресторатор не упускал из вида тонкого вкуса, отличавшего его эссе и его омлеты. Свой час был для бургундского, свое время для Côtes du Rhone[113]. В его глазах сотерн относился к медоку, как Катулл к Гомеру. Он придумывал силлогизм, прихлебывая сен-пере, разбирал доказательство за клодвужо, топил теорию в потоке шамбертена. Хорошо