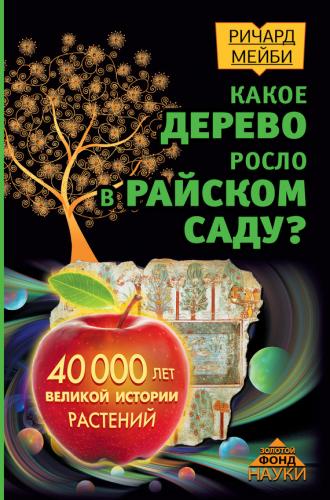Куда бы я ни попадал, везде растения удивляли меня: то они по-собачьи преданы своему месту – до того, что их можно назвать genius loci, то готовы по малейшей прихоти покинуть уютный дом и стать бродягами, оппортунистами, вольнодумцами. Я видел, как древние скрюченные деревья отращивают во все стороны ветви, которые шарят везде без разбора, словно усики вьюнка, способные с равным успехом расползтись по всему огромному лугу или вжаться в стену городского дома. Я дивился тропическим орхидеям, которые питаются воздухом и туманом. Если смотреть на растения с этой точки зрения, возникают серьезные вопросы о том, какие пределы ставит жизнь и какие возможности открывает: границы личности, природа старения, значение масштаба, цель красоты – похоже, растения проливают свет на процессы и парадоксы нашей собственной жизни.
Тут-то, разумеется, и возникают сложности. Как можно думать и говорить с симпатией о царстве, которое так сильно отличается от нашего, и при этом не адаптировать его к нашему мировоззрению, не порочить его? Разве мы не навязываем языковые ограничения всякий раз, когда пытаемся славить свободу растений? Нет ли противоречия в самом замысле этой книги? По традиции в нашем культурном подходе преобладают аналогии. Мы по меньшей мере две тысячи лет пытаемся осмыслить мир растений, жизненная сила которых едва заметна, сравнивая его обитателей с понятными нам образцами живости – с мышцами, импульсами, электрической машинерией, с несовершенными версиями нас самих. Нарциссы превращаются в танцовщиков, которые водят хоровод, вековые деревья – в стариков. Когда листья вянут и опадают, это такой сон или смерть. Мы – шекспировские раздвоенные корешки, пытающиеся решить «обезьянью головоломку» – именно так, “monkey puzzle”, называют по-английски араукарию.
А в сфере науки метафоры и аналогии не в чести и даже в опале. Ведь они, чего доброго, отвлекут от реальных жизненных процессов в растениях и приведут к чудовищной ереси (или прискорбной глупости) – натолкнут на мысль, будто растения заключают в себе или отражают наши чувства. Но я не понимаю, каким образом мы можем найти свое место в паутине жизни на Земле, не прибегая к иносказательным возможностям собственного языка для изучения