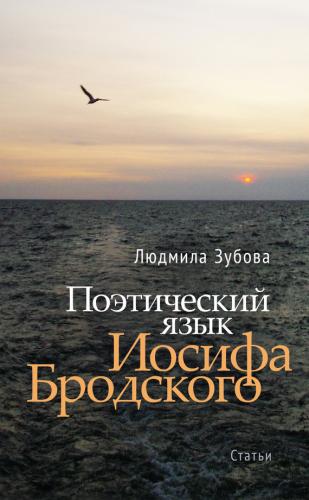Наблюдается и движение формы суть от грамматической связки к союзу – синониму союза то есть, что семантизирует этот союз, устанавливая равенство то есть = суть, и тем самым показывает механизм грамматического и смыслового преобразования:
В будущем, суть в амальгаме, суть
в отраженном вчера,
в столбике будет падать ртуть,
летом – жужжать пчела
Или – слившихся с теми, кого любили
в горизонтальной постели. Или в автомобиле,
суть в плену перспективы, в рабстве у линий. Либо
просто в мозгу. Дать это вслух, крикливо,
мыслью о смерти – частой, саднящей, вещной.
Дать это жизнью сейчас и вечной
жизнью, в которой, как яйца в сетке,
мы все одинаковы и страшны наседке,
повторяющей средствами нашей эры
шестикрылую помесь веры и стратосферы
Каким же образом все это осуществляет связь времен? Комплекс употреблений формы суть указывает на возвращение слова к грамматической нерасчлененности существительного-глагола-союза, но то, что в исходном состоянии представляло собой потенции развития, сейчас предстает итогом развития. Восклицая «О как из существительных глаголет!» («Горбунов и Горчаков»), Бродский постоянно показывает, что и глагол превращается в другие части речи.
В стихах Бродского имеются примеры с эксплицированной синонимией современной нормативной формы есть форме суть:
Время есть холод. Всякое тело, рано
или поздно, становится пищею телескопа:
остывает с годами, удаляется от светила.
Стекло зацветает сложным узором: рама
суть хрустальные джунгли хвоща, укропа
и всего, что взрастило
одиночество
Воздух и есть эпилог
для сетчатки – поскольку он необитаем.
Он суть наше «домой»,
восвояси вернувшийся слог
Впрочем, итог разрух –
с фениксом схожий смрад.
Счастье – суть роскошь двух;
горе – есть демократ
В таких контекстах можно видеть градацию смысловой значимости грамматической формы: движение от уподобления на уровне образа или ощущения к обобщающему уподоблению на уровне умозаключения.
Валентина Полухина обращает внимание на то, что в метафорах отождествления
…существенно меняется «напряженность сравниваемой силы»[12], что выражено как грамматикой, так и авторитетностью, даже категоричностью тона (Полухина, 2009: 185);
Приравнивая субъект к предикату