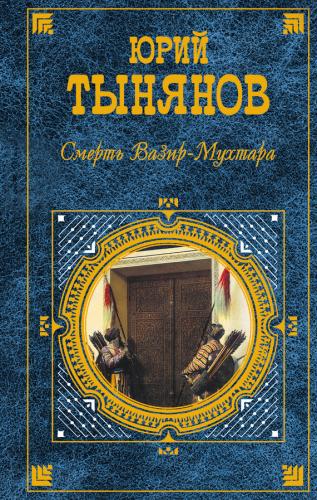Все было неудавшаяся Азия, разорение и обман.
Не хватало, чтобы стены и потолок были оклеены разноцветными зеркальными кусочками, как в Персии. Так было бы пестрее.
Это был его дом, его Heim[5], его детство. И как он все это любил.
Он устремился в сени, накинул плащ, выбежал из дому, упал в карету.
2
Озираясь с некоторым любопытством, он получил впечатление, что движение совершается кругообразно и без цели.
Одни и те же русские мужики шли по мостовой – взад и вперед.
Щеголь пронесся на дрожках от Новинской площади, и сряду такой же в противоположную сторону. Впрочем, он понял, в чем здесь дело: оба щеголя были в эриванках.
Не успели еще взять Эривани, как московские патриоты выражали уже свою суетность, напялив на головы эти круглые эриванки.
Нет, для Москвы, любезного отечества, не стоило драться на Закавказье, делать Кавказ кладбищем и гостиницей.
Пересек Тверскую, поехал по Садовой. Подозрительно грязны и узки были переулки, вливавшиеся в главные улицы. Карета свернула. Точно в Тебризе, где рядом с главной улицей грязь первозданная, а мальчишки ищут друг у друга вшей. Торчали колокольни. Они походили на минареты.
Он поймал себя на азиатских сравнениях, это была лень ума.
Все эти безостановочные дни, что он в какой-то лихорадке стяжания торговался с персами из-за каждого клока земли в договоре, что он мчался сюда с этим договором, имевшим уже свою кличку: Туркменчайский, – чтобы везти его сразу же, без промедления, в Петербург, – он двигался по всем направлениям, расточал любезность, ловкость, он хитрил, скрывал, был умен и даже не задумывался над этим всем, так уж шло.
Нынче же, под самым Петербургом, он осел; Москва его наспех проглотила и как бы забыла. Он начинал за эти два дня бояться, томиться, что не довезет мира до Петербурга, – боязнь детская и неосновательная.
Стоял печальный месяц март. Снег московский, внезапное солнце, а то и тень, скука – в два дня – дома, на улицах еще скучнее – не давали сосредоточиться. Все это было вроде арабесков, как он их созерцал в бессонные ночи под Аббас-Абадом, во время переговоров, что идешь, идешь за линией, натыкаешься на препону, и путаница. Как сильно действовала на него хорошая и дурная погода: на солнце он был мальчиком, в тени стариком.
Страшно подумать: рассеянность и холод коснулись даже проекта; он не был больше уверен в нем, даже напротив, проект, без сомнения, поскользнется… Прохожий франт поскользнулся, долго брыкал и потом оглядывался, не смеются ли.
Он и выезжал теперь с этой жаждой, с этим тайным намерением: выловить где-то на улицах решение.
Он растерял свои годы по столбовым дорогам, изъездил их – и вот теперь ловил свою молодость по переулкам.
Так обессиливала его Москва.
В последний день он решил объехать знакомых. Решения он на улицах не находил никакого. Просто был март: то солнце, то тень, много прохожих русских мужиков, толкущихся на одном месте. У них были одинаковые лица – все те же, что шли вперед, возвращались