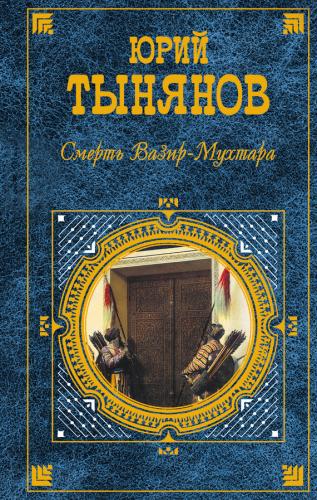9
Весь Петербург болел насморком. На Исаакиевской площади, которую они проходили, снег был мокрый, сизого цвета, ноздреват. Небо было белесое, чухонское.
Леса, беспорядок и щебень; мокрые доски, старческого и безнадежного вида. Три поколения уже видели эти леса вокруг церкви, которая никак не хотела стать на болоте. Покрытая черными холстами, лежала колонна, как труп морской рыбы времен потопа.
– Завтра будут ее поднимать, – сказал доктор, – будет торжество. Уже по всем гошпиталям известили, чтоб были готовы. Предполагается, что будет раздавлено несколько людей.
– Пороки в архитектуре, – заметил Сеньковский. – Какая колонна – но отойдите к бульвару, и вся церковь – игрушка. В Египте строили лучше, грубо, но с более полным понятием. Притом же церковь строится на сваях и лет через сто непременно погрузится в почву.
– Может ли это статься?
– Разумеется, – сказал Сеньковский с удовольствием. – Целые государства древности, возможно, бывали сметены, или сожжены, или утопали. И не увидишь более ни сих, ни оных.
– Однако ж мы довольно знаем и словесность древнюю и художества?
– Нимало. Древние Венеры, например, – сказал Сеньковский томно, – нас привлекает в них что? Их белость. А древние Венеры были накрашены, как сапоги, – сказал он с огорчением, – и только потом уж облупились.
Он притопнул своими новыми штиблетами, отряхая грязь. Пес увлекал профессора.
– И прибавьте еще действие атмосферической влажности.
– Вы изучаете древности? – спросил Грибоедов.
– Так же, как геологию и физику. Говоря в собственном смысле, я музыкант.
Церковь, которая строится десятилетиями, с тем чтобы через сто лет провалиться сквозь землю, младенчество и дряхлость, черное таяние снега, во всем недоконченность, и шагающий рядом человек с его обширными и ненадежными познаниями. И этот утомительный громозд сравнений!
Сеньковский был геолог, физик, профессор арабской словесности, и все ему было мало.
Пес увлекал профессора.
– У вас фортепьяно какой, – спросил Грибоедов, – Плейеля или с двойной репетицией?
– Разве может меня удовлетворить какой-либо фортепьяно, – сказал в нос Сеньковский. – Фортепьяно стучит, и только. Он отжил свой век, нынче потребны более сильные инструменты.
– Это почему же?
– Ибо требуется большая звучность. Я организую собственный инструмент. В нем восемь клавиатур. Он называется клавио-оркестр.
– И что же, как играет ваш оркестр?
– Он не совсем еще докончен, – сказал неохотно Сеньковский.
– А что вы на нем играть будете?
– Но, бог мой, все то же, что и на фортепьяно, – мрачно ответил Сеньковский.
Вдруг он взял под руку Грибоедова и заговорил отрывисто, осклабив гнилые зубы:
– Я презираю в Петербурге всех – всех,