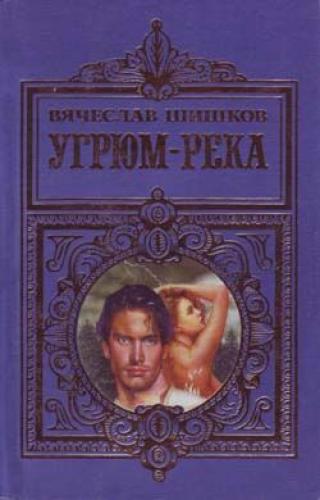– Якши, якши! Бок – яман... Больно... Кость мозжит, рэбро... – Ибрагим засопел, брови его поднялись выше, он устало закрыл глаза и ощупью, словно слепой, водил ладонью по голове и плечам юноши:
– Я люблю тебя, Прошка... Люблю... – Он выдохнул эти слова с мучительной скорбью, словно навек разлучаясь с Прохором. – Люблю...
От волнения Прохор прерывисто дышал. Он поцеловал морщинистый, мудрый лоб черкеса и, против воли, прислушался к себе: вот все в нем сотрясается, мятется. И, как агнец пред занесенным ножом, Прохор доверчиво смотрит на властителя своей судьбы. Но его сердце замирает, сердце что-то угадывает – страшное, неотвратимое, – которое слышится и в доносившемся тявканье голодных зверей, и в нарастающем злобном гуденье леса.
– Спи!.. – сказал черкес вновь отвердевшим, решительным голосом. – Крепко спи, не просыпайся.
И от костра еще раз крикнул укладывающемуся Прохору:
– Прощай, Прошка!.. Прощай, джигит... Прощай!..
«Что значит – прощай? Почему – прощай?» – силился спросить Прохор и не мог.
С открытыми глазами Прохор лежал под шубой. Мысли мелькали мрачные, короткие, торопливые, как взмахи крыльев быстролетных птиц. В шуме, в говоре тайги родились эти пугающие мысли; в шуме, в визге и в грохоте они докатывались до сердца, опустошали сердце, вырывали из сердца стон. Тоска была смертная. И все чувствования, все обрывки неясных полузвуков-полуслов кто-то собирал в крепкую горсть, как разрозненные вожжи взбесившейся шалой тройки, и больно осаживал, и разжигал, и требовал: «Есть». Неукротимый, сосущий голод.
«Есть!»
Но есть нечего. И завтра нечем обрадовать, обмануть желудок. А послезавтра?
«Прощай, Прошка... Прощай, джигит».
Черкес точил кинжал.
В шуме, в нарастающем гуле и говоре тайги Прохор чутко слышал – черкес точил кинжал.
Дзикающий, знакомый звук. Блестящий, холодный, пламенный, красный – этот звук ползет змеей под шубу, прищуривается и смотрит на Прохора стеклянным, острым, как комариное жало, глазом.
«Дзик, дзик... Прощай, джигит».
«Черкес наточит кинжал, убьет лося... Притащит лося в палатку... Костер, огонь». Прохор улыбается, грезит сладко и под дзикающий железный звяк падает в сон, в ничто.
Сталь клинка, древняя, как человек, устала жить, устала жить и душа черкеса, такая же древняя, как сталь клинка.
Черкес точил кинжал.
Надо острей. Пробует на волосок: нет, туп кинжал. Надо острей, острей. Воспаленный взор, мозг, душа – все в скрытом пламени, как подземный пожар тайги. Сталь белая, с желто-синим отливом по краям, сталь живая, премудрая, сталь верная в могущественной, убивающей, любя, руке. Резкий, режущий взмах клинка – и...
– Ой, джигит, джигит!..
Капли пота катятся по горбатому носу в черную, густо запущенную бороду. И когда Ибрагим с надсадой переводит дух, тугая пружина его души раскручивается, шагнувшая за пределы мысль охладевает, возвращается на свое место, и душа отчетливо видит то, чему не миновать.
Губы шепчут:
– Тебе легко будет, Прошка...