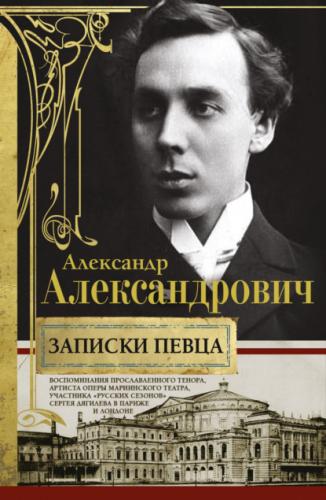Помню себя ребенком и юношей. Я рос в самом центре России, на Волге, в провинциальном, но чудесном городе – Нижнем Новгороде («красавец-город», «золотые маковки», старинный, богатейший, расположенный «на горах» при впадении Оки в Волгу). В нем насчитывалось около 150 тысяч жителей, и было что-то около тридцати либо сорока церквей, и в каждой по хору. Все они не только пели, но и состязались друг с другом, – можно было ходить и сравнивать, где поют лучше.
И у каждого из нас были не только любимые регенты, но и любимые песнопения, которые мы стремились пойти послушать. А после, дома, сами пробовали так спеть…
Не знаю сам почему, но я с самого раннего детства не любил, когда в церкви поют громко. Мне не нравилось рыкание басов, сотрясение сводов храма и прочее. Бессознательно, но я считал это оскорбительным для богослужения.
«Служить Богу изо всей силы нельзя. Да и ангелы так никогда не поют», – думал я.
А мне всегда внушалось, что лучшее пение – ангельское. Я его и искал в церкви.
Я безумно любил, например, пение мальчиков-«исполлатчиков» за архиерейским служением. Это трио из детских голосов – 1-й дискант, 2-й дискант и альт, – конечно, лучшие из состава хора. Они – в стихарях в соответствующие моменты богослужения выходили то на амвон, то на средину храма и пели именно как ангелы. Если же пел хор, то я всегда хотел, чтобы он был большим – «много ангелов», но чтобы пел стройно и тихо, а местами и едва слышно.
Никуда меня так не тянуло, бывало, как в наш чудный большой собор ко всенощной, когда там пели архиерейские певчие. Ими управлял тогда совершенно исключительный регент-художник Ремизов, принявший позже священнический сан и так в рясе и дирижировавший. Он никогда не щеголял никакими эффектами. Он держался простого и строгого как в выборе песнопений, так и в исполнении.
И мне вот до сих пор кажется, будто я слышу, как в огромном полуосвещенном соборном храме раздаются сдержанные звуки Предначинательного псалма – «Благослови, душе моя, Господа» – в начале всенощной и последующие за этим: «Блажен муж», «Господи, воззвах к Тебе», «Свете тихий», так называемое простое «Хвалите имя Господне» и прочее.
В этих песнопениях нет ничего, кроме углубленной молитвенной созерцательности и необыкновенной простоты музыкальной формы, но производить ими впечатление может только тот, кто постиг тайну исполнения. Любимый мой регент знал эту тайну и достигал того, что люди слушали именно эти простые песнопения и заслушивались и предпочитали их всяким другим – сложным и вычурным.
Позже, когда вырос и стал артистом, я понял, что у меня, у маленького, «губа была не дура», – мне нравилось, оказывается, самое трудное, но и самое ценное в исполнении – так называемое sostenuto (т. е. сдержанность). Накричать-то каждый может, это легко. А вот попробуй-ка сдержать голос и темперамент и попытайся создать настроение, не прибегая к приемам ослепления слушателя – к вычурности, к контрастности и прочему. И ты